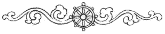- Об авторе.
- Предисловие.
- ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И
ИСТОРИЯ.
- ГЛАВА 1. ФИЛОСОФИЯ ДАО.
- ГЛАВА 2. ИСТОКИ БУДДИЗМА.
- ГЛАВА 3. БУДДИЗМ МАХАЯНЫ.
- ГЛАВА
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ ДЗЭН.
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
- ГЛАВА 1. ПУСТОЙ И ЧУДЕСНЫЙ.
- ГЛАВА 2. СИДЕТЬ СПОКОЙНО, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ.
- ГЛАВА 3. ДЗА-ДЗЭН И КОАН.
- ГЛАВА 4. ДЗЭН В ИСКУССТВЕ.
- ПРИЛОЖЕНИЕ. Письмо Такуана из книги Алана Уотса "Дух Дзэн".
Алан Уотс родился в Англии. В США он переехал в 1938 г. Он прошёл путь редактора, священника и профессора колледжа. Занимался исследовательской и лекторской работой в университетах Кембриджа, Корнелла и Гавайев, а некоторое время был советником по вопросам религии при Северо-Западном университете. Он выступал с лекциями в Американском Психиатрическом Обществе и институте К.Г.Юнга в Цюрихе, на медицинских курсах в американских госпиталях. Затем он становится деканом Американской Академии Азиатских Исследований в Сан-Франциско. Алан Уотс ушёл из жизни в 1973 г.
В последние двадцать лет ощущается чрезвычайный рост интереса к Дзэн-буддизму. Со времён второй мировой войны этот интерес возрос настолько, что явно становится значительной силой в интеллектуальном и культурном мире запада. Это, несомненно, связано с общим интересом к японской культуре, что является одним из конструктивных итогов последней войны. Но если бы дело было только в этом, то Дзэн мог бы оказаться лишь преходящим модным увлечением. Более глубокой причиной такого интереса является то, что мировоззрение Дзэн оказалось созвучным начинающейся эволюции мысли Запада.
Несмотря на свои тревожные и деструктивные аспекты, цивилизация запада в наше время находится в одном из самых своих плодотворных периодов. В новейших областях западной науки, таких как психология и психотерапия, логика и философия науки, семантика и теория связи, возникают удивительные новые идеи и открытия. Возможно, что за некоторыми из этих достижений находится влияние философии Азии, но я убежден, что это скорее параллелизм мышления, чем непосредственное заимствование идей. Мы, однако, осознаём этот параллелизм, и это обещает нам в будущем плодотворные изменения взглядов на мир.
В нашем веке мысль запада меняется настолько стремительно, что наша психика иногда оказывается просто не в состоянии справится с наплывом новых идей и впечатлений. Возникли не только серьезные трудности в понимании между интеллектуальной и обычной публикой, но и сама направленность нашего мышления серьёзно подрывает основы здравого смысла, лежащие в фундаменте наших социальных соглашений и общественных институтов.
Исчезают знакомые концепции пространства и времени, движения, природы и её законов, истории и социальных изменений, человеческой индивидуальности, и мы ощущаем себя несомыми по течению, в реке без берегов, в пространстве, которое всё больше и больше соответствует буддийскому принципу “Великой Пустоты”. Ничто не может научить нас искусству жить в такой вселенной – ни религиозная, ни философская, ни научная мысль запада. В таком не хранящем следа океане относительности мы строим планы нашего пути. И для абсолютизации, для фиксации себя в этом мире мы используем те принципы и законы, за которые мы могли бы ухватиться ради своей духовной и психологической безопасности.
Вот почему, я думаю, возник повышенный интерес к такому способу жизни и такой культуре, которая на протяжении пятнадцати столетий в такой “Пустоте” ощущала себя как у себя дома, не только не испытывая при этом ужаса, но даже ощущая позитивное наслаждение. Выражаясь языком Дзэн, ситуация Дзэн всегда была:
Внизу – ни пяди земли, чтобы поставить ногу.
Этот
язык не
так уж и непонятен для нас, поскольку мы способны понимать смысл
высказывания Нового Завета: “лисы имеют норы, птицы небесные имеют
гнёзда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову”.
Я вовсе не сторонник того, чтобы “импортировать” Дзэн с Дальнего
Востока, поскольку он глубоко связан с культурными институтами,
принципиально нам чуждыми. Однако, несомненно, существуют вещи, которым
мы могли бы научиться или разучиться, кое-что мы могли бы применить и
на
своем пути. Дзэн имеет свой особый способ самовыражения, разумный, но
обескураживающий как интеллектуала Запада, так и обычного человека,
предоставляя для общения ранее не используемые возможности.
В нем есть
непосредственность, яркость и юмор, и ощущение красоты, вызывающие
одновременно раздражение и радость. Но прежде всего – у него есть
способ
обратить ум внутрь себя и преобразовать самые тягостные проблемы человека
в вопросы типа “Почему это мышь, если она крутится как волчок?” В
основе этого подхода существует сильное, но абсолютно несентиментальное
сострадание к человеческим существам, страдающим и умирающим от самой
попытки сохранить себя.
Существует множество прекрасных книг по Дзэн, хотя некоторые из лучших
были быстро распроданы, а некоторые – трудно достать. До
сих пор ни
одна
из них –
в том числе и книги доктора Судзуки – не предложила обзор
этого предмета, который включал бы исторические предпосылки Дзэн и его
связь с индийскими и китайскими духовными традициями. Три тома Эссе
по Дзэн-буддизму представляют собой
несистематизированное собрание
научных статей по различным аспектам предмета, в высшей степени
полезных для продвинутых учеников, но совершенно бесполезных обычному
читателю, не имеющему представления об общих принципах. Его
удивительное Введение в Дзэн-Буддизм имеет достаточно
специальный
характер. В нем не раскрываются важные вопросы связи Дзэн с китайским
даосизмом и индийским буддизмом, а в некоторых аспектах работа более
туманна, чем это необходимо. Остальные его работы представляют собой
исследование специальных аспектов Дзэн, каждый из которых требует
предварительного изложения общих основ и исторической ретроспективы.
Книга Р.Х.Блиса, Дзэн в английской литературе и восточной классике
представляет собой одно из лучших доступных введений в предмет, но она
опубликована только в Японии, и, опять-таки, в ней недостаточно
информации об основах Дзэн. Как совокупность разбросанных, хотя и
удивительно глубоких наблюдений, она не делает попыток упорядочить
изложение вопроса. Моя работа Дух Дзэн
представляет собой
популяризацию ранних работ Судзуки. Она не только не имеет научного
характера, но во многих отношениях устарела и вводит в заблуждение.
Однако к ее достоинствам можно отнести прозрачность и простоту
изложения. Книга Дзэн-буддизм Кристмаса Хэмфрейса.
опубликованная только в Великобритании, также представляет собой
популяризацию работ Судзуки. Она тем более не занимается погружением
Дзэн в контекст западной культуры. Она написана ясно и легко, но автор
ставит знак равенства между буддизмом и теософией, что кажется мне
весьма спорным. Другие работы по Дзэн как западных, так и азиатских
авторов или имеют слишком специальный характер, или являются
обсуждением
применения Дзэн к психологии, искусству или истории культуры.
Поскольку не существует фундаментальной систематизирующей работы по
этому вопросу, восприятие Дзэн Западом, несмотря на весь порожденный им
энтузиазм и интерес, представляет собой нечто совершенно сумбурное. Вот
я и попытался написать такую работу по Дзэн, поскольку, на мой взгляд,
никто, кроме меня, не желает и не может сделать этого. Рассмотрим это
подробнее. Я полагаю, что было бы идеально, если бы такую работу мог бы
осуществить достигший и признанный мастер Дзэн. Но в настоящее время
никто из таковых не владеет английским языком достаточно хорошо. Более
того, когда кто-то говорит изнутри какой-либо традиции, и, в
особенности, изнутри определенной иерархии общественных институтов, -
он всегда подвержен определенной потере общей перспективы,
невозможности занять позицию стороннего наблюдателя. Кроме того, одним
из самых больших препятствий для общения между мастерами японского Дзэн
и приверженцами западных традиций является отсутствие ясности
относительно различий базисных культурных предпосылок. Обе стороны
настолько “настаивают на своем”, что не осознают ограниченности своих
средств общения.
Поэтому очевидно, что самым подходящим автором такой работы мог бы быть
представитель Запада, который провел несколько лет под руководством
японского мастера, пройдя полный курс обучения Дзэн. Однако с точки
зрения “западной учености” это совершенно недопустимо, поскольку такой
человек стал бы “энтузиастом” или “апологетом”, то есть не способным на
объективную точку зрения. Но, к сожалению, или к не-сожалению, Дзэн -
это прежде всего переживание, невербальное по своей природе, он просто
недоступен чисто буквальному и научному подходу. Чтобы узнать, что
такое Дзэн, и, особенно, чем он не является, - нет иной альтернативы
как только практиковать его, экспериментировать с ним в его
конкретности, чтобы открыть смысл, который лежит в основе слов. Если
даже такой представитель Запада прошёл некоторую тренировку в Риндзай
Дзэн, то он постарается уйти
от
ответов и общения на том основании, что;
Те, кто говорит, не знают.
Хотя
такие
ученики не “высовываются”, но и не закрывают рот полностью. То есть они
хотели бы разделить свое понимание с другими, однако убеждены в том,
что слова по своей сути тщетны, и, более того, они дали слово не
обсуждать определенные аспекты своей практики. Поэтому они
придерживаются типично азиатского подхода: “прийди и узнай сам”. Но
научно подготовленный представитель Запада, осторожный и скептичный,
желает знать, в какое место он “отправляется”. Он остро осознает
склонность ума к самообману в ситуации, когда для того, чтобы попасть в
нее, следует оставить критическое отношение за порогом двери. Азиаты
просто презирают такое отношение, а их последователи на Западе
подвержены этому настроению тем более, что те отказываются рассказывать
ученому-исследователю даже то, что находится еще в пределах
возможностей
человеческой речи и интеллектуального понимания.
Поэтому писать о Дзэн проблематично как для внешнего “объективного”
наблюдателя, так и для внутреннего “субъективного” ученика. В различных
ситуациях я находил себя по обе стороны этой дилеммы. Я изучал Дзэн
вместе с “объективными” наблюдателями и убежден в том, что несмотря на
все их позитивные качества, они неизменно теряют суть вопроса и съедают
меню вместо завтрака.
Я также находился внутри традиционной иерархии – не-дзэнской – ив
равной мере убежден, что и здесь не осознают, какой завтрак едят. С
этой
точки зрения человек становится “идиотом”, который не может общаться с
теми,, кто не принадлежит к той же пастве.
Одинаково абсурдно и опасно то, что в нашем мире существует множество
вероисповеданий, которые отлучают друг друга от церкви. Это особенно
справедливо для великих культур Запада и Востока, где богаче
возможности
для общения и где больше опасность неудачи такого общения. Пытаясь на
протяжении почти двадцати лет интерпретировать Восток с точки зрения
Запада, я постепенно приобретал уверенность в том, что в интерпретации
такого феномена как Дзэн нужно следовать четкому принципу. С одной
стороны, необходимо сочувствовать и лично экспериментировать со
способом
жизни до предела собственных возможностей. С другой – следует
сопротивляться любой попытке присоединиться к организации, чтобы
вовлечься в соглашения этого общественного института. В этой
дружески нейтральной позиции следует не принадлежать ни одной из этих
сторон. Но, в худшем случае, неверное понимание породит новое
непонимание, стремясь получше себя выразить. Ведь связь между этими
двумя точками зрения становится более ясной, если есть третья, с
которой
можно их сравнить. Таким образом, даже если это изучение Дзэн не делает
ничего большего, чем просто выражает некоторое мнение, не принадлежащее
ни Дзэн, ни мировоззрению Запада, то оно по крайней мере выражает эту
третью точку зрения. Однако не может быть сомнения в том, что
существенной особенностью Дзэн является то, что он не может быть
организован или отдан в исключительное обладание какого-либо
общественного института и что многие из его древних последователей были
“универсальными индивидуалистами”: теми, кто никогда не был членом
“организации” Дзэн и никогда не искал признания формального авторитета.
Вот такова моя позиция по отношению к Дзэн - и я считаю, что должен
быть откровенен с читателями в дни, когда уделяется так много внимания
верительным грамотам или вопросам квалификации. Я не могу считать себя
ни поклонником Дзэн, ни даже буддистом, поскольку это для меня подобно
тому, чтобы кутаться в облака или наклеивать на них ярлыки. Я не могу
считать себя объективным представителем
науки, поскольку по отношению
к Дзэн для меня это подобно изучению пения птиц среди собрания
соловьиных чучел. Я провозглашаю отсутствие прав говорить о Дзэн, я
провозглашаю лишь удовольствие изучать его литературу и наблюдать формы
его искусства с детской непосредственностью. Я провозглашаю
удовольствие от неформальной связи со множеством японских и китайских
путешественников, шедших по тому же пути.
Эта книга предназначена как для обычного читателя, так и для более
серьезного ученика, и я верю что первый будет терпеливым и усвоит
некоторое количество специальных терминов. Китайские иероглифы в
приложении и другие критические заметки будут полезны тем, кто желает
глубже изучить предмет. Книга состоит из двух частей: первая освещает
основания и историю Дзэн, вторая - посвящена его принципам и практике.
Источники информации, которые я использовал, можно разделить на три
группы. Во-первых, я использовал почти все исследования Дзэн
европейскими авторами. Естественно, в значительной мере я использовал
работы профессора Судзуки, хотя и старался не основываться на них в
слишком большой степени - не потому, что в них есть какой-нибудь изъян,
а потому, что читатель имеет право на что-то большее, - на свежий
взгляд, а не не простой пересказ работ Судзуки.
Во-вторых, я основал свой взгляд на Дзэн, изложенный в этой книге, на
подробном изучении самых важных из ранних китайских работ. Особое
внимание было уделено Хсинг-хсин
Мин, Тай-Чин или Сутре
шестого патриарха Линъ-чжи Лу или Кунь-цзун-су Ю-лу. Моего
собственного знания династии Тань недостаточно для освещения некоторых
чудесных моментов этой литературы, но, я думаю, что его было
достаточно,
чтобы получить самое необходимое: ясный взгляд на суть доктрины. Во
всех этих моих усилиях мне очень помогли мои коллеги и исследователи
Американской Академии Азиатских Исследований, но особенную
благодарность я хочу выразить профессору Сабро Хасегаве и Жи-Мин Шиену,
д-ру Паулу и д-ру Джорджу Фунгу, д-ру Фредерику Хонгу, м-ру Чарлзу Йику
и м-ру Кацумицу Като, настоятелю школы Сото Дзэн.
В третьих, моя информация была получена из множества личных встреч с
учителями и учениками Дзэн на протяжении более чем двенадцати лет.
Перевод текстов оригинала на английский язык на страницах этой книги
принадлежит мне, если автор перевода не указан особо. Для удобства тех,
кто читает по-китайски, я предлагаю в приложении после библиографии
оригинальные иероглифические тексты самых важных цитат и специальных
терминов. Для серьёзных учеников я считаю это необходимым, как и для
квалифицированных исследователей, до сих пор незнакомых с правильным
переводом текстов эпохи Тань.
Грамотные читатели пусть простят меня за то, что я позволил себе
опустить абсурдные диакритические отметки в словах на санскрите (такие
как точка под символом т), поскольку они очень запутывают обычного
читателя, а для знающего санскрит они не обязательны: ведь он всегда
может вспомнить оригинальное написание на Деванагири. Что касается
правильного звучания имён мастеров Дзэн и названий текстов Дзэн, то в
зависимости от происхождения они приведены в китайском или японском
звучании. Специальные термины в случаях, когда они не являются
характерными только для японского Дзэн, даны на китайском.
Американская Академия Азиатских Исследований
Сан-Франциско, июль 1956.
Дзэн-буддизм
– это образ жизни и взгляд на
жизнь, который нельзя свести к какой-либо
формальной категории современной западной мысли. Это не религия и не
философия, не психология и не наука. Это образец того, что в Индии и
Китае называют “путь освобождения”, и в этом смысле дзэн-буддизм
родственен даосизму, веданте и йоге. Как будет показано в дальнейшем,
путь освобождения не поддаётся положительному определению. Его можно
описать лишь косвенно, указав, чем он не является, подобно тому, как
скульптор раскрывает образ, удаляя лишние пласты мрамора.
В историческом отношении Дзэн является результатом развития двух
древних культур: Китая и Индии, хотя по существу он носит скорее
китайский, чем индийский характер. С
XII века
Дзэн пустил глубокие корни в
Японии и получил там поистине творческое развитие. Как порождение этих
великих культур, как уникальный и в высшей степени поучительный пример
восточного “пути освобождения”. Дзэн представляет собой ценнейший дар
Азии миру.
Происхождение Дзэн в равной мере связано как с даосизмом,
так и
с
буддизмом, и так как он обладает ярко выраженной китайской окраской,
лучше, пожалуй, вначале рассмотреть его китайские истоки – и
одновременно на примере даосизма показать, что такое “путь освобождения
”.
Большинство затруднений и мистификаций, возникающих перед изучающими
Дзэн на Западе, объясняется их незнанием китайского способа мышления,
который значительно отличается от нашего. Именно поэтому, если мы хотим
критически отнестись к нашим собственным идеям, он и представляет для
нас особый интерес. Трудность здесь состоит не в столько в том, чтоб
овладеть какими-то новыми идеями, отличающимися от наших, так,
например, как философия Канта отличается от философии Декарта или
взгляды кальвинистов от взглядов католиков. Задача заключается в том,
чтоб уловить и оценить различие в основных предпосылках мысли и в самом
методе, мышления. Поскольку именно это часто игнорируется, – наша
интерпретация китайской философии большей частью оказывается проекцией
чисто европейских идей, облачённых в одежды китайской терминологии. Это
неизбежный порок изучения философии Азии в рамках западной школы, с
помощью слов, и только. В действительности слово становится средством
общения лишь в том случае, когда собеседники опираются на похожие
переживания.
Было бы преувеличением считать, что такой богатый и тонкий язык, как
английский, не способен передать китайскую мысль. Напротив, английский
язык может выразить много больше, чем полагают некоторые китайские и
японские приверженцы Дзэн или даосизма, познания которых в английском
оставляют желать лучшего.
Препятствием является не столько сам язык, сколько те клише мышления,
которые до сих пор представляются европейцам неотъемлемым признаком
академического и научного подхода к явлениям. Именно эти клише,
совершенно не пригодные для таких явлений, как даосизм и Дзэн, создают
впечатление, что “восточный склад ума” представляет собой нечто
мистическое, иррациональное и непостижимое. Не стоит также полагать,
что
всё это чисто китайские или японские материи, которые не имеют точек
соприкосновения с нашей культурой. Хотя и верно то, что ни одна
“официальная” ветвь западной науки или идеологии не совпадает с путем
освобождения, но замечательное исследование Р.Х. Блиса “Дзэн в
английской литературе” уже убедительно показало, что основные прозрения
Дзэн носят универсальный характер.
Причина, по которой Дзэн и даосизм представляют на первый взгляд
загадку для европейского ума, заключается в ограниченности нашего
представления о человеческом познании. Мы считаем знанием лишь то, что
даос назвал бы условным, конвенциональным знанием: мы не
чувствуем, что знаем нечто, до тех пор, пока не можем определить это в
словах или в какой-нибудь другой традиционной знаковой системе, –
например, в математических или музыкальных символах. Такое знание
называется конвенциональным, условным, потому что оно является
предметом
общественного соглашения (конвенции), – договорённости
относительно
средств общения. Как люди, разговаривающие на одном и том же языке,
имеют молчаливую договоренность о том, какое слово обозначает какой
предмет, точно так же члены любого общества и любой культуры
объединяются узами общения, основанными на разного рода соглашениях
относительно классификации и оценки предметов и действий.
Поэтому, например, задача воспитания состоит в том, чтобы приспособить
детей к жизни в обществе, внушив им необходимость изучать и
воспринимать
коды этого общества, условности и правила общения, которыми оно
скрепляется. Таким кодом является, во-первых, язык, на котором говорят
его члены. Ребенка учат, что “дерево”, а не “бумум” является условным
знаком для этого (указывают на предмет). Нетрудно понять, что
называние “этого” словом “дерево”, – вопрос условности,
соглашения.
Менее очевидно, что соглашение предопределяет также очертание того
предмета, к которому привязано данное слово. Ведь ребёнка учат не
только тому, какое слово обозначает какой предмет, но и тому способу,
которым его культура молчаливо условилась различать предметы в
пределах нашего каждодневного опыта. Так, научная конвенция определяет,
является ли угорь рыбой или змеёй, а грамматическая конвенция
устанавливает, что из нашего опыта следует называть предметами, а что –
действиями или событиями. Насколько условны эти конвенции, видно,
например, из такого вопроса: “Что происходит с моим кулаком
[существительное-предмет], когда я открываю ладонь?” Здесь предмет
чудесным образом исчезает, потому что действие было замаскировано
принадлежностью к части речи, обычно связанной с предметом!
В английском языке отчётливо выступает различие между предметами и
действиями, хотя и не всегда логически обоснованное, а в китайском
языке многие слова являются одновременно и глаголами и
существительными, так что человеку, мыслящему по-китайски, нетрудно
видеть, что предметы также являются действиями, и что наш мир
–
совокупность скорее процессов, чем сущностей.
Кроме языка, ребёнок должен воспринять многие другие разновидности
кодов. Необходимость сосуществования требует соглашения относительно
кодов закона и морали, этикета и искусства, кодов веса, меры, чисел и,
в
первую очередь, –
ролей. Нам трудно общаться друг с другом, если мы не
можем идентифицировать себя в терминах ролей – отец, учитель,
рабочий,
художник, “славный парень”, джентльмен, спортсмен и т.д. В той степени,
в какой мы идентифицируем себя с этими стереотипами и связанными с ними
правилами поведения, мы и сами ощущаем, что на самом деле
являемся чем-то, потому что окружающим легче воспринимать нас, – т.е.
идентифицировать нас и чувствовать, что мы у них “под контролем”.
Встреча двух незнакомых людей где-нибудь в гостях вызывает ощущение
некоторой неловкости, если хозяин не идентифицировал их роли,
представив их друг Другу, ибо они не знают, какие правила общения и
поведения следует соблюдать в данном случае.
Легко заметить конвенциональный характер любых ролей. Человек, который
является отцом, может быть и доктором, и художником, а также служащим и
братом. И очевидно, что даже совокупность названий этих ролей является
далеко не адекватным описанием самого человека, хотя и помещает его в
определённую схему поверхностной классификации. Но есть соглашения,
которые определяют идентификацию самой личности, они носят более тонкий
характер и гораздо менее очевидны. Мы учимся весьма глубоко, хотя и не
столь явно, отождествлять себя со столь же конвенциональным
представлением о своём “я”. Ибо конвенциональное “я” или “личность”
образуется главным образом как результат отдельных разрозненных
воспоминаний, начиная с момента рождения. В соответствии с конвенцией,
“я” –
это не просто то, что я делаю сейчас. “Я” – это то, что я уже
сделал. Поэтому моя конвенционально обработанная версия своего прошлого
может оказаться более реальным “я”, чем то, чем я являюсь в данный
момент. Ведь то, что я есть, – так мимолётно,
неосязаемо, а то,
чем я был, является фиксированным и окончательным. Оно может
служить твёрдой основой для предсказаний о том, чем я стану в
дальнейшем. Но таким образом получается, что я прочнее идентифицирую
себя с тем, чего уж нет, чем с тем, что есть на самом деле!
Очень важно осознать, что воспоминания и эпизоды из прошлого, которые
формируют историю человеческой личности, образуются в результате
определённого отбора. Из действительной бесконечности событий и
переживаний жизни человека отбираются и абстрагируются как наиболее
важные только некоторые, причём важность их, конечно, определяется
принятыми в обществе мерками. Ибо сама природа конвенционального знания
заключается в том, что оно представляет собой систему абстракций. Оно
состоит из знаков и символов, в которых предметы и события сводятся к
самым общим их значениям, подобно тому, например, как китайский
иероглиф женъ означает “человек”, потому что является самым
упрощённым изображением человеческой фигуры.
Это же относится к словам, не являющимися идеограммами. Каждое из
английских слов: “человек”, “рыба”, “звезда”, “цветок”, “бежать”,
“расти” –
указывает на некий класс предметов или действий,
обнаруживающих свою принадлежность к данному классу с помощью
простейших
признаков, абстрагированных от общей сложности того целого, которое
представляют собой эти явления.
Таким образом, абстракция представляет собой необходимый элемент
общения, ибо она даёт нам возможность оформить свой опыт с помощью
несложного и быстро производимого “схватывания” умом. Когда мы говорим,
что в каждый момент времени можем думать только об одной вещи, – это всё
равно, что сказать, что Тихий океан не может быть выпит залпом. Его,
мол, нужно пить стаканами и осушать постепенно. Абстракции и
конвенциональные знаки подобны таким стаканам: они дробят переживание
на
части, достаточно элементарные для того, чтобы воспринимать их по
очереди, одну за другой. Подобным же образом, кривые измеряются с
помощью сведения их к множеству крошечных прямых или с помощью
представления их в виде квадратов, которые они пересекают, будучи
перенесены на графлёную бумагу.
Другими примерами того же рода являются фотографии в газетах или
телепередачи. На газетных фотографиях окружающее воспроизводится в виде
светлых и тёмных точек, расположенных на экране или в решетчатом
трафарете так, чтобы создать общее впечатление чёрно-белого снимка,
рассматриваемого без увеличительного стекла. Как бы похоже ни выглядела
газетная фотография –
это всего лишь реконструкция действительной сцены
с помощью пятен, как наши конвенциональные слова и мысли являются
реконструкцией опыта с помощью абстрактных знаков. Ещё более похож
мыслительный процесс на механизм телепередачи, где телевизионная камера
воспроизводит естественную сцену с помощью линейной последовательности
импульсов, которые можно передать по проводам.
Так общение с помощью конвенциональных знаков представляет нам мир в
абстрактном линейном переводе. А ведь это мир, где на самом деле всё
происходит “сразу”, одновременно, и его конкретная реальность никак не
поддаётся адекватному выражению в столь абстрактных символах.
Адекватное
описание мельчайшей горсти пыли при таком способе заняло бы бесконечно
много времени, ведь нам пришлось бы по очереди описывать все пылинки,
образующие целое.
Линейный, “поэлементный” характер речи и мысли особенно отчётливо
проявляется во всех языках, где есть алфавит и переживание выражается
длинной цепочкой букв. Трудно сказать, почему мы вынуждены общаться с
другими (разговаривать) и с самими собой (думать) этим
“неодновременным”
способом. Сама жизнь проходит совсем не столь неуклюжим линейным путём,
и наш собственный организм не просуществовал бы и минуты, если бы в
мыслях постоянно давал себе отчёт о каждом вздохе, каждом биении
сердца, каждом нервном импульсе. Чтобы объяснить, как это происходит,
полезно проанализировать зрительное восприятие, позволяющее провести
близкую процессу мышления аналогию. Дело в том, что мы владеем двумя
видами зрения –
центральным и периферийным, которое можно сравнить с
двумя видами освещения: направленным лучом и рассеянным светом.
Центральное зрение необходимо для тщательной работы, – например,
чтения, –
когда наши глаза, как луч прожектора, последовательно
направляются на каждый участок текста. Периферийное зрение менее
сознательно, не так ярко, как интенсивный луч направленного источника
света. Мы пользуемся им в темноте и тогда, когда бессознательно
замечаем предметы и движения, не лежащие на прямой линии нашего центрального
зрения. В отличие от прожектора, это зрение захватывает множество
предметов одновременно.
Итак, существует аналогия, – а может быть, и больше, чем
аналогия, –
между центральным зрением и сознательным, “последовательным” процессом
мышления, между периферийным зрением и тем самым таинственным
процессом,
который позволяет нам регулировать невероятно сложный аппарат тела без
всякого участия мысли. Следует оговорить далее, что мы называем
наш организм сложным, когда пытаемся понять его в терминах линейного
мышления, неотделимого от слов и понятий. Но эта сложность принадлежит
не столько нашему телу, сколько попыткам постичь его таким методом, всё
равно что пытаться разглядеть обстановку большой комнаты с помощью
одного единственного луча. Это так же трудно, как напиться не из чашки,
а из вилки.
В этом отношении язык китайской письменности по сравнению с нашим имеет
некоторые преимущества, что, возможно, отражает разницу в способах
мышления. Он тоже линеен, так же представляет из себя серию абстракций,
воспринимаемых по очереди, неодновременно. Но его письменные знаки всё
же несколько ближе к жизни, чем буквенные слова, потому что они, в
сущности, – картинки, а китайская пословица
гласит: “Один раз показать –
лучше, чем сто раз объяснить”. Сравните, например, насколько легче
показать, как правильно завязывается галстук, чем объяснить это на
словах.
Для европейского сознания вообще чрезвычайно характерно представление,
что мы не знаем как следует того, что не в состоянии выразить или
передать другим в виде линейных знаков, т.е. мыслей. Мы как гости на
балу, стоящие у стеночки и не рискующие танцевать, пока им
не
нарисуют схему движений танца, т.е. гости, не умеющие воспринимать
танец
“чутьём”. Мы почему-то не полагаемся на “периферийное зрение” нашего
сознания и недостаточно пользуемся им. Когда мы учимся, например,
музыке, то сводим всё разнообразие тона и ритма к обозначению
фиксированных тональных и ритмических интервалов, – такое обозначение
не годится для восточной музыки. На Востоке музыкант обозначает мелодию
лишь приблизительно, чтобы не забыть её. Обучается он музыке не чтением
по нотам, а тем, что слушает исполнение учителя, развивает своё
музыкальное “чутьё” и копирует его игру: это даёт ему возможность
достичь редкостной изысканности ритма и тона, доступной на Западе лишь
некоторым джазовым исполнителям, которые пользуются тем же способом.
Мы отнюдь не хотим сказать, что на Западе вообще не умеют пользоваться
“периферийным умом”. Будучи человеческими существами, мы всё время
прибегаем к нему, а каждый художник, работник или спортсмен особенно
нуждается в специфическом развитии этой способности. Но в научном и
философском обиходе этот тип знания не признаётся. Мы только начинаем
оценивать его возможности, и нам редко (почти никогда) приходит в
голову, что одна из самых важных областей его применения – это то
“познание реальной действительности”, которого мы стремимся достигнуть
с
помощью громоздких конструкций теологии, метафизики и логики.
Обратившись к древней истории Китая, мы найдём там две “философские”
традиции, дополняющие друг друга: конфуцианство и даосизм. Не входя в
подробности, можно сказать, что первое учение занимается языковыми,
этическими, юридическими и ритуальными конвенциями, которые
обеспечивают
общество системами коммуникаций. Другими словами, его область –
конвенциональное знание, и под знаком конфуцианства дети воспитываются
так, чтобы их свободный и капризный по природе нрав уложить в
прокрустово ложе общественного порядка. Индивидуум находит себя и своё
место в обществе с помощью формул Конфуция.
В противоположность конфуцианству даосизм, в основном, – предмет
внимания старости, и особенно тех, кто покидает активную жизнь в
обществе. Их отказ от жизни в обществе есть как бы символическое
отражение внутреннего освобождения от ограничивающего воздействия
конвенциональных стандартов мышления и поведения. Ибо для даосизма
главное –
это не конвенциональное знание, его интересует восприятие
жизни не в абстрактных, линейных терминах дискурсивного мышления, а
прямое, непосредственное познание.
Таким образом, конфуцианство осуществляет социально необходимую функцию
–
втискивание природной спонтанности жизни в жесткие рамки конвенций.
Эта цель достигается не только ценой конфликта и страдания, но и ценой
утраты той неподражаемой естественности и “самонеосознанности”,
которыми мы так любуемся в детях и которые лишь изредка возрождаются у
святых и мудрецов. Задача даосизма – исправить неизбежный
вред,
нанесённый этой дисциплиной, и не только восстановить, но и развить
природную спонтанность, которая имеет в китайском языке особое
назначение –
цзы-жанъ –
“самособойность”. Ибо спонтанность
ребёнка –
как и всё в ребёнке –
черта детства. Воспитание культивирует
в нём не спонтанность, а косность. В некоторых натурах конфликт между
социальной конвенцией и подавленной природной спонтанностью так велик,
что выливается в преступление, безумие или невроз, – вот цена, которую
мы платим за преимущества общественного порядка, в остальном совершенно
и несомненно неоспоримые.
Тем не менее, ни в коем случае не следует понимать даосизм как
революцию против конвенций, хотя это учение и использовалось иногда в
качестве предлога. Даосизм – это путь
освобождения, а освобождения
нельзя достичь с помощью революции. Всем известно, что революции, как
правило, порождают тиранию хуже той, которую они ниспровергли. Быть
свободным от конвенций –
не значит отвергать их; это значит – не быть
обманутым ими и вместо того, чтобы быть инструментом в их руках, уметь
пользоваться ими как инструментом.
На Западе нет общепризнанного института, соответствующего даосизму,
потому что наша иудейско-христианская традиция отождествляет Абсолют –
Бога –
с конвенциями морального и логического порядка. И это можно
считать величайшей катастрофой для культуры, так как это отягощает
социальный порядок чрезмерным авторитетом, вызывая тем самым революции
против религии и традиций, которые так характерны для истории Запада.
Ведь одно дело –
сознавать себя в конфликте с санкционированными
обществом конвенциями, а совсем другое – чувствовать, что ты
не
соответствуешь самим основам и корням бытия. Абсолюту. Это чувство
воспитывает такое нелепое ощущение вины, что стремится найти себе выход
либо в отрицании своей собственной природы, либо в бунте против Бога.
Поскольку первое совершенно невозможно – как нельзя укусить собственный локоть, – а
такие
паллиативы как исповедь помочь уже не могут, – неизбежным становится
второе. Революция против Бога, как и свойственно революциям, приводит к
тирании ещё худшей – абсолютистского государства.
Худшей – потому, что
государство не может прощать, оно не признаёт ничего, кроме власти
собственного правосудия. Пока закон исходит от Бога, его представитель
на Земле – церковь – всегда готова признать, что хотя
Божественный
закон
непреложен, никому не дано знать меру Божественного милосердия. Но
когда трон Абсолюта пустеет, его узурпирует относительное и, оскверняя
Абсолют, творит подлинное кощунство – оно создаёт себе кумир из идеи,
абсолютизирует конвенциональную абстракцию. Маловероятно, однако, чтобы
трон Абсолюта сразу опустел, если бы в каком-то смысле он уже не
пустовал задолго до этого, т.е. если бы западная культура умела
постигать Абсолют непосредственно, минуя термины конвенционального
порядка.
Разумеется, уже одно слово “Абсолют” создаёт впечатление чего-то
абстрактного, понятийного, вроде “Чистого Бытия”. Само наше
представление о “духе” как противоположности “материи” явно ближе к
абстрактному, чем к конкретному. Но как учат даосизм и другие “пути
освобождения”, Абсолютное нельзя путать с абстрактным. С другой
стороны,
сказать, что Дао – как называют конечную Реальность
даосы – ближе к
конкретному, чем к абстрактному, значит ещё более запутать вопрос. Ведь
мы привыкли ассоциировать конкретное с материальным, физиологическим,
биологическим и природно-естественным, в отличие от
сверхъестественного. Но с точки зрения даосизма или
буддизма всё это не более как
термины, предназначенные для конвенциональной, абстрактной области
знания.
Например, биология и физиология представляют собой разновидности
знания, которые представляют реальный мир в терминах своих собственных
абстрактных категорий. Они измеряют и классифицируют его применительно
к
поставленным ими специфическим задачам. Землемер, например,
представляет себе землю в гектарах, подрядчик-строитель – в тоннах или
в
машинах, а агроном – в химических формулах состава
почвы. Сказать, что
конкретная реальность человеческого организма физиологична, – это всё
равно, что сказать: земля – это и есть гектары или тонны.
Можно
сказать,
что эта реальность – природна, если только под
природным подразумевать
спонтанное (цзы-жань), природу порождающую (naura naturans).
Но это утверждение глубоко неверно, если под природой подразумевается природа
порожденная (natura naturata), т.е. природа расклассифицированная,
расчленённая на отдельные “природы”, как, например, в вопросе: “Какова природа
этого явления?”. Так называемый “научный натурализм” понимает природу
именно в этом последнем смысле слова и не имеет ничего общего с
натурализмом даосизма.
Итак, для того, чтобы почувствовать, что такое даосизм, нужно по
меньшей мере согласиться допустить, что возможен взгляд на мир,
отличный
от конвенционального. Что возможно знание иное, чем содержание верхнего
слоя сознания, который воспринимает реальность в виде одной
единственной абстракции (или мысли – китайское нянь) за раз.
Это не так уж трудно, ведь никто не станет отрицать, что мы “знаем”,
как двигать руками, как принять решение, как дышать, хотя едва ли
смогли бы объяснить на словах, как мы это делаем. Раз мы это делаем,
значит мы знаем, как это делать! Даосизм есть развитие именно такой
разновидности знания; его развитие создает у человека совершенно новое
представление о самом себе, далекое от привычного конвенционального
взгляда, и это представление освобождает человеческий ум от сжимающего
отождествления с абстрактным эго.
По преданию, основоположник даосизма Лао-цзы был старшим современником
Кун-фу-цзы или Конфуция, который умер в 479 г. до н.э1. Лао-цзы
считается автором небольшой книги афоризмов “Дао Дэ Цзин”. В этой
книге представлены принципы Дао и его сила, или добродетель дэ. Однако
китайская философская традиция возводит как даосизм, так и
конфуцианство к ещё более древнему источнику - к произведению,
заложившему основу китайской мысли и культуры, которое возникло где-то
в
период от 3000-го до 1200-го года до нашей эры. Это - И-цзин, или
“Книга
перемен”.
И-цзин - не что иное как
гадательная книга. В ней содержатся
шестьдесят четыре предсказания, связанные с шестьюдесятью четырьмя
абстрактными фигурами, каждая из которых состоит из шести линий. Эти
линии имеют два вида: сплошные (положительные) и прерывистые
(отрицательные). Считают, что фигуры, образованные шестью линиями,
воспроизводят различные направления, по которым трескается при
нагревании панцирь черепахи.
Это связано с древним способом
гадания, когда предсказатель, проделывая дырочку в панцире черепахи,
подогревал его и предсказывал будущее по образовавшимся трещинам –
точно
так же, как хиромант гадает по линиям руки. Такие трещины, естественно,
были более сложными, и шестьдесят четыре гексаграммы, как полагают,
являются упрощенной классификацией различных видов таких трещин. В
последующие века панцирь черепахи вышел из употребления, а вместо него,
чтобы получить гексаграмму, соответствующую моменту, когда оракулу
задается вопрос, стали бросать пятьдесят стебельков тысячелистника.
Однако истинный знаток И-цзин не
нуждается ни в панцире
черепахи, ни в стебельках тысячелистника. Он во всём видит гексаграмму –
в случайном расположении цветов в вазе, в предметах, беспорядочно
разбросанных по столу, в пятнышках и крапинках, естественно
образовавшихся на камне. Современный психолог заметит в этом
несомненное
сходство с так называемыми тестами Роршаха, с помощью которых
психическое состояние пациента определяется по тем мгновенным образам,
которые он “видит” в сложном сочетании, чернильных клякс. Если бы
пациент был способен сам объяснить свои ассоциации, связанные с
кляксами, он получил бы весьма ценную информацию относительно самого
себя, небесполезную для предсказания его поведения в будущем. С этой
точки зрения не стоит отбрасывать гадание по И-цзин как
пустой предрассудок.
Более того, приверженец И-цзин мог
бы поставить нас в тупик,
сравнив относительные достоинства двух подходов к серьёзным решениям.
Нам кажется, что мы принимаем решения рационально, потому что опираемся
на веские данные, непосредственно связанные с нашей проблемой. Наш
выбор не зависит от таких неуместных пустяков, как орёл или решка,
рисунка чаинок или трещины на панцире черепахи. Однако сторонник И-цзин,
пожалуй, спросил бы нас, откуда мы знаем, какая информация полезна,
поскольку наши планы постоянно меняются вследствие непредвиденных
обстоятельств. Он также спросил бы нас о том, как мы узнаем, что
собранных сведений достаточно для принятия решения? Ведь если бы мы
собирали сведения строго “научным” образом, на собирание необходимой
информации ушло бы столько времени, что действовать было бы поздно уже
задолго до того, как эта работа была окончена. Так откуда же мы узнаем,
что располагаем достаточным количеством сведений? Может быть, сами
сведения сообщают нам об этом? Отнюдь нет. Мы сугубо рационально
собираем необходимые данные и вдруг, - то ли по наитию, то ли устав от
размышлений, то ли просто потому, что пришло время решать, мы
действуем. Сторонник И-цзин,
вероятно, спросил бы нас, не
зависит ли это от тех же “неуместных пустяков”, которые играют роль при
гадании на стебельках тысячелистника.
Другими словами, “строго научный” метод предсказания будущего может
иметь место лишь в особых случаях – там, где нет
необходимости в
срочных
действиях, где существенные факторы носят в основном механический
характер или последствия
настолько незначительны, что становятся тривиальными. Гораздо чаще наши
важные решения зависят от “наития” – иначе говоря, от “периферийного
зрения” ума. Поэтому надежность наших решений в конечном счете зависит
от способности “ощущать” ситуацию, от степени развития этого
периферийного видения.
Каждый последователь И-цзин знает
это. Он знает, что эта книга
сама по себе не содержит точных сведений, она скорее полезный
инструмент, который послужит ему, если у него хорошо развита
“интуиция”,
если он, как выразился бы он сам, находится “в Дао”. Поэтому, прежде
чем обратиться к оракулу, следует должным образом подготовиться,
медленно и дотошно выполнить весь подписанный ритуал так, чтобы
привести ум в состояние покоя, в котором легче будет проявиться
“интуиции”. В общем, если истоки даосизма содержатся в И Цзин,
то они не столько в самом тексте книги, сколько в том, как этой книгой
пользоваться, и почему такой подход оказался возможным. Опыт
интуитивного принятия решений убедительно доказывает, что периферийная
способность ума лучше всего проявляется в тех случаях, когда мы не
вмешиваемся в неё, когда мы доверяем ей действовать спонтанно –
дзу-жанъ,
само собой.
Так начинают вырисовываться основные положения даосизма. Во-первых,
существует Дао – не поддающееся определению,
конкретное “движение”
мира,
Путь жизни. Это слово на китайском означает собственно “путь”,
“дорогу”, а также иногда “говорить”, так что первая фраза книги Дао
дэ Цзин содержит игру слов, основанную на этих двух значениях:
“Высказанное Дао не есть вечное Дао2”.
Пытаясь, однако, хотябы намекнуть, что он имеет в виду, Лао-цзы
говороит: "Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде Неба и Земли
родившаяся! Как беззвучно! Как пусто! Однако стоит она и не изменяется. Повсюду
действует и не знает усталости. Её можно считать матерью всего сущего
под небесами. Я не знаю её имени, но я называю её словом Дао".
И ещё:
Какое неопределённое! Какое неясное!
В его туманности и неопределённости содержатся образы.
Какое неясное! Какое неопределённое!
Но в нём скрыты вещи. Какое туманное!
Какое непонятное! Но в нём рождается сила ума.
Поскольку эта сила самая подлинная,
В ней есть уверенность.
“Сила ума” – это цзин, слово, которое включает значения существенного, тонкого, психического или духовного, а также искусного. Смысл здесь, по-видимому, в том, что так же, как собственная голова – ничто для глаз, и тем не менее является источником разума, – смутное на вид, пустое, неопределимое Дао является разумом, который оформляет мир, причем с искусством, превосходящим возможности нашего понимания.
Важнейшее отличие Дао от обычного представления о Боге в том, что Господь создает мир актом творения вей, тогда как Дао создает его “не-деянием” у-вей, что приблизительно соответствует нашему слову “вырастание”. Ибо вещи сотворенные – это отдельные части, собранные воедино как механизм или предметы, сделанные руками в направлении снаружи — вовнутрь, как, например, скульптура. И напротив, разделение на части всего растущего происходит изнутри и направлено вовне. Поскольку в мире природы все развивается по принципу роста, китайскому уму представляется более чем странным вопрос, как был сотворен мир. Если бы мир был создан, то разумеется, существовал бы некто знающий, как он был создан; и он сумел бы объяснить, как строился мир, – постепенно, по частям, точно так, как инженер может последовательно рассказать, как собирается какой-либо механизм. Но мир, который растет, исключает какую-либо возможность узнать с помощью языка неуклюжих слов и понятий, как он растет. Поэтому даосу никогда и в голову не придет вопрос, знает ли Дао, как оно создаёт мир. Ведь Дао действует не по плану, а спонтанно. Лао-цзы говорит:
Однако
спонтанность ни в коей мере не означает беспорядочный слепой порыв,
чистый каприз. Дело в том, что ум, привыкший к альтернативам
конвенционального языка, не имеет доступа к постижению разума, который
действует не по плану, не в соответствии с ходом последовательных, одна
за другой возникающих мыслей. Хотя конкретное доказательство
возможности такого разума у всех под рукой – это наше собственное тело,
организованное без участия мысли3. И Дао “не знает”, как оно создаёт
мир, точно так же, как мы “не знаем”, как создаём свои умственные
способности.
Говоря словами Чжуан-цзы, великого последователя Лао-цзы:
Конвенциональное
отношение познающего к познаваемому чаще всего представляет собой
отношение контролера к тому, что он контролирует, т.е.
отношение хозяина к слуге. Но в отличие от Господа Бога, который
является Господином Вселенной, поскольку “Он знает всё! Он знает! Он
знает!”, Дао относится к тому, что оно создаёт, совершенно по-другому:
“Великое Дао растекается
повсюду,и вправо, и влево.
Благодаря ему рождается и существует всё сущее,
и оно не
прекращает своего
роста.
Оно совершает подвиги, но нельзя выразить в словах, в чём его заслуги.
С любовью оно взращивает все вещи, но не считает себя их властелином”.
В
традиционном европейском понимании Господь Бог к тому же полностью
осознаёт себя: Он абсолютно понятен и ясен Самому Себе и являет пример
Того, чем хотел бы быть человек – сознательным руководителем,
контролером и абсолютным властелином Своего тела и ума. В
противоположность ему Дао таинственно и темно сюань. Вот что
говорит Дзэн-буддист позднейшего периода:
Сюань,
конечно, – темнота в переносном смысле
слова, не тьма ночи, не чёрное в
противоположность белому, а та чистая непостижимость, с которой сталкивается ум, когда
пытается вспомнить
момент, предшествующий рождению, или погружается в собственные глубины.
Западные критики часто
подшучивают над таким
неопределённым представлением об Абсолюте, высмеивая его как “туманное
и
мистическое”, и противопоставляют ему свои трезво-определённые
формулировки. Но, как говорил Лао-цзы:
Он старательно исполняет его.
Когда средний узнаёт о Дао,
Он то соблюдает, то теряет его,
Когда низший слышит о Дао,
Он смеётся над ним. Если бы, он над ним не смеялся,
Оно не заслуживало бы имени Дао.
Дело в том, что невозможно почувствовать, что
подразумевается под Дао, не поглупев в каком-то особом смысле слова.
Пока сознательный ум неистово пытается втиснуть весь мир в сеть
абстракций и настаивает на том, что жизнь должна точно укладываться в
эти жесткие категории, – до тех пор дух Дао остается чужд
и сознание
лишь
зря надрывается. Дао доступно лишь уму, владеющему простым и тонким
искусством у-вей,
которое является после Дао вторым основным
принципом даосизма.
Мы уже видели, что с
помощью книги И-цзин китайцы
научились принимать спонтанные решения, эффективность которых зависит
от умения человека "отпускать" свой ум, предоставляя ему действовать
самому по себе. Это и есть у-вей:
у – означает "не" или "нет", а вей – "действие", "делание",
"стремление", "напряжённость" или "занятость". Если вернуться к нашему примеру со зрением,
периферийное
зрение
действует наиболее эффективно, когда мы – как в темноте – смотрим на
вещи не прямо, а искоса, уголком глаз. Если нужно рассмотреть
подробности отдаленного предмета, например, стрелки часов, глаза должны
быть расслаблены, они не должны таращиться, не должны стараться
рассмотреть предмет. Или другой пример: как ни усиливай работу мускулов
рта или языка, вкус пищи не станет от этого острее. И глазам, и языку
следует доверить действовать самостоятельно.
Но поскольку мы
привыкли
излишне полагаться на
центральное зрение, на сильный прожектор глаз и ума, мы не сможем
возродить способности периферийного зрения, если сначала не расслабим
своего резкого пристального взгляда. Ментальный или психологический
эквивалент такого расслабления — нечто вроде тупости, которая так часто
упоминается у Лао-цзы и Чжуан-цзы. Это не просто спокойствие ума, а
особого рода "не-хватание" умом. Говоря словами Чжуан-цзы: "Совершенный
человек пользуется своим умом словно зеркалом: он ничего не хватает и
ничего не отвергает. Воспринимает, но не удерживает". Можно сказать,
что ум при этом как бы слегка "расплывается", чтобы избавиться от
излишней четкости. Так Лао-цзы говорит о себе:
Все люди счастливы, как на пиру,
Как на высокой башне в весенний день.
Я один спокоен, и ничего не выражает мой вид,
Как лицо ребёнка, ещё не умеющего улыбаться.
Я одинок и заброшен, точно бездомный.
У людей – избыток всего,
У меня одного – нужда.
Может быть, у меня ум глупца,
И полон заблуждений! Пошлость так сообразительна –
Я один, кажется, туп. Пошлость так проницательна, –
Я один, кажется, глуп. Я ко всему безразличен — как будто ничего не различаю.
Я плыву по течению – как будто ни к чему не привязан.
У всех людей есть какое-то дело, Один я, кажется, непрактичен и неуклюж.
Один я – не такой, как все. Но я ищу поддержки у Матери (Дао)5.
Большинство
даосских текстов содержат некоторое преувеличение, усиленный образ. Это
как бы юмористическая карикатура автора на самого себя. Вот что пишет,
например, Чжуан-цзы:
Лао-цзы
еще более настойчиво и явно осуждает обычную искусность:
Это окупится стократ.
Оставь “гуманность6”; отбрось “справедливость” –
И обретёшь любовь к ближнему.
Оставь искусность, отбрось выгоду,
И не станет ни воров, ни разбойников.
Останься незатронутым;
Лелей непосредственность,
Смиряй своё Я;
Уменьшай желания.
Задача
здесь, конечно, не в том, чтобы довести свой ум до идиотского
безмыслия, а в том, чтобы, пользуясь им без усилий, дать проявиться
врожденным спонтанным силам ума. И для даосизма и для конфуцианства
основополагающим является представление о том, что естественному
человеку можно доверять. С этой точки зрения европейское недоверие к
человеческой природе – и теологическое, и
технологическое –
представляется чем-то вроде шизофрении. Человек не может, по китайским
представлениям, искренне верить в порочность своей природы, без того,
чтобы не дискредитировать саму эту веру, т.е. все представления
извращённого ума суть извращённые представления. Будучи на поверхности
весьма "эмансипированным", технологический ум обнаруживает,
что он унаследовал всё ту же раздвоенность, ибо он пытается подчинить
всё человеческое существование контролю сознательного разума. Он
забывает, что нельзя доверять разуму, если нет доверия мозгу. Ведь сила
разума зависит от органов, выращенных “бессознательным разумом”.
Искусство "отпускать" свой
ум живо описывает другой даосский автор Ли-цзы (около
398 г. до н.э.), прославившийся мистическими способностями – умением
обуздывать ветер. Здесь, несомненно, имеется в виду особое ощущение
"ходьбы по воздуху", которое возникает, когда ум впервые становится
свободным. Рассказывают, что когда профессора Судзуки спросили, что
чувствует человек, достигший сатори
(термин Дзэн для обозначения "пробуждения"), он ответил: "Совсем как
обычно, только на два дюйма над
землёй!". Итак, Ле-цзы попросили однажды рассказать, как он учился
ездить верхом на ветре. В ответ он рассказал об обучении, которое
проходил под руководством своего учителя Лао-Шана:
К концу пятого года произошла перемена: ум стал размышлять о правильном и ложном, уста заговорили о полезном и вредном. Лишь тогда я удостоился улыбки учителя.
К концу седьмого года произошла новая перемена. Я дал волю своему уму размышлять о чём угодно, но его уже не занимали добро и зло. Я дал волю устам моим произносить всё что угодно, но они не заговорили о полезном и вредном. Лишь тогда учитель позвал меня и усадил рядом с собой на циновку.
Прошло девять лет, и мой ум отпустил поводья мыслей, мои уста были свободны для речи. О правильном и ложном, о полезном и вредном уже не ведал я, для меня ли, для других. Внутреннее и внешнее сочетались в единстве. Не было различий между зрением и слухом, слухом и обонянием, обонянием и вкусом. Все стало одним. Мой ум замёрз, мое тело растворилось, плоть моя и кости слились в одно. Я перестал осознавать, на что опирается тело, на что ступает нога. И несомый ветром, как лист с дерева или сухая шелуха, я в конце концов не сознавал, то ли ветер оседлал меня то ли я – ветер.
Описанное
психическое состояние очень напоминает ощущение приятного опьянения – и
при этом без неотвратимого похмелья “завтра утром”, присущего алкоголю!
Это сходство было отмечено Чжуан-цзы, который писал:
Поскольку
и Лао-цзы, Чжуан-цзы и Линь-Цзи обладали достаточно ясным умом, чтобы
создавать вполне вразумительные книги, следует признать, что эти
сравнения несколько преувеличены и носят метафорический характер. Их "бессознательное" состояние – это
не
кома, это то,
что последователи Дзэн позднее назовут у-синъ, буквально "не-ум", т.е.
отсутствие самосознания. Это состояние целостности, в
котором ум функционирует вольно и легко, и не ощущается никакого
другого
ума или "эго", стоящего над ним с дубинкой. Если обыкновенный человек –
это тот, кто ходит, поднимая ноги руками, то даос – это тот, у которого
ноги идут сами.
Различные отрывки
даосских
текстов наводят на мысль,
что у-синъ, "не-ум", используется умом точно так, как мы
используем глаза, когда останавливаем взор то на одном, то на другом
предмете, не делая особых усилий разглядеть его. Как пишет Чжуан-цзы:
Или в другом месте:
"Неактивное" действие ума можно продемонстрировать и
на любом другом органе чувств. Это всё равно что слушать, не напрягая
слух, обонять, не втягивая с усилием воздух, ощущать вкус, не чмокая
языком, и касаться предметов без нажима.
Каждое из этих действий – частный случай деятельности ума,
которое
присутствует в каждом из них, у китайцев получило особое имя – синь.
Этот термин настолько важен для
понимания
Дзэн, что следует предварительно
пояснить, что даосизм и – шире – китайская мысль вообще
понимают
под этим словом7. Мы обычно переводим синь как "ум" или “сердце”, но оба эти
перевода неудовлетворительны. Его
первоначальная идеограмма напоминает не то сердце, не то легкие или
печень, а когда китаец говорит о синь,
он часто указывает
пальцем куда-то посреди груди, чуть пониже сердца.
Если
перевести синь как "ум", "сознание",
– получается нечто слишком
интеллектуальное, связанное с корой головного мозга; если же перевести – "сердце" – в современном языке это вызывает
ассоциации с чем-то
эмоциональным, даже сентиментальным. Трудность и в другом: синь употребляется
не всегда в одном и том же значении. В выражении "у-синъ" "синь"
означает некое препятствие, которое подлежит устранению, а иногда синь
выступает почти как синоним Дао. Особенно часто это бывает в
Дзэн-буддийских текстах, где сплошь и рядом встречаются такие словосочетания
как "первоначальный ум" (пень-синь),
"ум Будды" (фусинь),
а также "вера в ум" (синь-синь).
Это явное
противоречие снимается тем основополагающим соображением, что “ум не
ум”, т.е. синь истинно эффективен,
когда действует, как бы
отсутствуя. Точно так же глаза видят хорошо, когда они не видят самих
себя, т.е. точек и пятнышек в воздухе.
Скорее
всего, синь обозначает взятое в
целом функционирование психики
человека, а в более узком смысле слова — центр психической
деятельности, который связан с центральной точкой в верхней части тела.
Соответствующее японское слово кокоро
обладает еще большим
числом тонких оттенков значения, но пока достаточно подчеркнуть, что,
переводя синь как ум (довольно
расплывчатый термин), мы здесь
имеем в виду не только интеллектуальный, мыслящий ум и даже не только
верхний слой сознания в целом. Ибо, как учит даосизм и Дзэн-буддизм,
центр психической деятельности человека не находится в его сознательном
мышлении, и вообще в его "эго".
Когда
человек научился отпускать свой ум так, что тот начинает действовать со
всей присущей ему от природы цельностью и спонтанностью, – в человеке
начинает проявляться особого рода свойство или сила, которую называют дэ.
Это не добродетель в теперешнем смысле слова как нравственная
безупречность, а скорее в старом смысле, ассоциирующемся с
эффективностью, когда говорят о целительных свойствах растения. Далее, дэ
есть естественная и спонтанная сила, свойство, которое нельзя
культивировать или имитировать каким-либо сознательным образом. Лао-цзы
говорит:
Поэтому оно обладает дэ.
Низшее дэ – не отпускает дэ,
Поэтому оно – не дэ.
Высшее дэ – не действует (у-вей) и не имеет цели.
Низшее дэ – действует и преследует цель.
Буквальный
перевод обладает глубиной и выразительностью, которые исчезают в
парафразе типа:
“Высшая
добродетель не осознает себя добродетелью, поэтому она добродетель.
Низшая добродетель не может обойтись без виртуозности, поэтому она не
добродетель”.
В
то время, как конфуцианство проповедовало добродетель, состоящую в
искусственном следовании правилам и предписаниям, даосы подчеркивали,
что такая добродетель конвенциональна и не подлинна. Чжуан-цзы сочинил
следующий воображаемый диалог между Конфуцием и Лао-цзы:
– Они состоят, – ответил Конфуций, – в способности радоваться вместе со всем миром, во всеохватывающем чувстве любви без тени "Я". Вот в чём милосердие и долг перед ближним.
– Какая чушь! – воскликнул Лао-цзы. – Разве универсальная любовь содержит в себе противоречия? Разве уничтожение "Я" не есть положительная проявление "Я"? Господин мой, если вы не хотите лишить империю источников жизни – вот перед Вами универсум, его порядок нерушим; вот солнце и луна – свет их неизменен; вот звёзды – их созвездия не меняются; вот птицы и звери – они живут стаями и стадами, без перемен; вот деревья и кустарники – они растут снизу вверх – все без исключения. Будьте им подобны. Следуйте Дао и будьте совершенны. К чему эта бесплодная погоня за добрыми делами и справедливостью – это всё равно что бить в барабан, отправляясь на розыски беглеца. Увы! Господин мой, как много путаницы внесли Вы в сознание человека.
Даосская
критика конвенциональной добродетели относится не только к сфере
нравственной, но и к искусству, ремеслу, торговле. Вот что пишет
Чжуан-цзы:
Так
же, как ремесленник, обладатель дэ
обходится без
искусственного циркуля, художник, музыкант, повар не нуждаются в
конвенциональной классификации, присущей различным видам искусства.
Лао-цзы говорит:
Пять звуков притупляют слух.
Пять вкусовых ощущений притупляют вкус,
Охота и погоня волнуют сердце,
Цель, которой трудно добиться, губит способности человека.
Вот почему мудрый делает запасы для желудка, а не для глаза.
Это ни в коем случае не следует понимать как
аскетическую ненависть к чувственному опыту. Смысл этого отрывка как
раз
в том, что восприимчивость глаза к цвету гораздо шире, чем
фиксированное представление о пяти и только пяти цветах. В
действительности существует лишь последовательная смена бесчисленных
оттенков, и расчленение их на отдельные цвета с помощью наименований
отвлекает внимание от тонкости этих переходов. Вот почему "мудрый
делает
запасы для желудка, но не для глаза" – значит, что он судит, исходя из
конкретного содержания переживания, а не из того, насколько это
переживание соответствует теоретическим нормам.
В конечном счете
получается, что дэ —
это
немыслимая искусность и творческая сила естественной и спонтанной
деятельности человека – сила, которая блокируется, когда
пытаются
овладеть ею посредством какого-то формального метода или приема. Это
как
искусство сороконожки из одной песенки – управлять сразу всеми
своими сорока ножками.
До тех пор пока жаба в шутку Не спросила её:
"Скажи, пожалуйста, в каком порядке движутся твои ножки?"
Сознание сороконожки так напряглось,
Что она лежала в канаве в полной прострации,
Размышляя над тем, как сдвинуться с места.
Глубочайшее уважение к дэ пронизывает все высшие достижения культуры Дальнего Востока, так что дэ является основным принципом всех видов искусства и ремесла. Хотя эти искусства и пользуются чрезвычайно сложной и, с нашей точки зрения тончайшей техникой, – сама по себе она всё же считается второстепенной, всего лишь средством. Лучшие же произведения искусства содержат элемент случайного. Это не просто мастерское подражание случайному, притворная спонтанность, за которой искусно скрыт продуманный план. Представление о дэ в искусстве затрагивает несравненно более глубокий и подлинный уровень. Культура даосизма и Дзэн придерживается убеждения, что каждый человек может стать без всякого намерения со своей стороны источником самых чудесных неожиданностей.
Итак, даосизм – это чисто китайский путь освобождения, который, слившись с индийским буддизмом Махаяны, породил дзэн-буддизм. Даосизм – это освобождение от конвенций и высвобождение творческой силы дэ. Всякая попытка описать и сформулировать его в словах или в последовательных мыслительных знаках с неизбежностью приводит к неминуемому его искажению. Эта глава поневоле представила даосизм в виде то ли виталистской, то ли натуралистической философии. Западне философы, увы, постоянно терзаются, обнаружив, что не могут сойти с избитой колеи привычных представлений. Как бы они ни старались, их "новая" философия оказывается обновлённым вариантом прежних идеймонизма или плюрализма, философии реалистической или номиналистской, виталистской или механистической. Ведь это единственно возможные альтернативы, которые представляют нам конвенции самой мысли: они не могут ничего обсуждать, не обозначив предмет в своём собственном языке. Когда попытаешься изобразить на плоскости третье измерение, обязательно будет казаться, что оно то и дело сливается то с длиной, то с шириной. Или, как говорил Чжуан-цзы: Если бы слов было достаточно, то, проговорив целый день, мы сумели бы исчерпать Дао. Поскольку же слов недостаточно, то, проговорив целый день, можно исчерпать лишь материальное. Дао – нечто вне материального. Его не выразить ни в словах, ни в молчании.
Когда китайская цивилизация впервые соприкоснулась с буддизмом, она насчитывала уже по меньшей мере две тысячи лет. Новая философия столкнулась таким образом с устоявшейся традиционной культурой и вряд ли прижилась бы в ней, если бы не приспособилась к китайскому складу ума. Правда, сходство между даосизмом и буддизмом и так настолько велико, что возникает подозрение, не были ли они связаны гораздо раньше, чем считается. Во всяком случае, Китай поглотил буддизм точно так же, как поглощал многие другие чужеродные воздействия, – не только идеи и философские системы, но и целые народы и орды завоевателей. И, несомненно, во многом это объясняется теми исключительными устойчивостью и зрелостью, которыми китайцы обязаны конфуцианству. Здравое, свободное от фанатизма, проникнутое человеколюбием учение Конфуция являет собой один из самых реалистических образцов социальной конвенции, какие только известны истории. Обогатившись даосским принципом "Пусть всё остаётся само собой!", конфуцианство взрастило зрелый и в то же время лёгкий тип сознания, которое, восприняв буддизм, во многом изменило его, сделав более "практичным". Иначе говоря, китайцы сделали буддизм образом жизни, доступным для человеческих существ – людей с семьями, с каждодневным необходимым трудом, с нормальными инстинктами и страстями.
Основным принципом конфуцианства является положение о том, что "не истина возвышает человека, а человек возвышает истину". "Человечность" или "человеческая сердечность" (женъ) всегда ощущалась им выше "правоты" (и), ибо человек как таковой выше любой идеи, которую он способен породить. Бывают времена, когда страсти людей заслуживают гораздо больше доверия, чем их принципы. Противоположные принципы, враждебные идеологии – непримиримы, и войны, ведущиеся из-за них, приводят к взаимному истреблению. Куда менее разрушительны войны, возникающие из-за простой жажды наживы. Ведь в этом случае захватчик старается по крайней мере не уничтожать то, что собирается завоевать. Разумные – т.е. человеческие – существа всегда способны на компромисс, но не люди, которые обесчеловечили себя, сделавшись слепым орудием какой-нибудь доктрины или идеала, – фанатики, чья вера в абстракции превратила их во врагов всего живого. Смягчённый таким отношением к жизни, дальневосточный буддизм более “удобоварим” и человечески естественен, чем буддизм Индии или Тибета, чей жизненный идеал иногда выглядит сверхчеловеческим, доступным скорее ангелам, чем людям. Но и в нём, как и во всех остальных школах, буддисты придерживаются определённого Среднего Пути между крайними состояниями ангела (дева) и демона (прета), аскетизма и чувственности.
Они утверждают, что нет иного пути к высочайшему "пробуждению" или состоянию Будды, кроме как через человеческое состояние.
При попытке дать исторически точное описание индийского буддизма, а также той философской традиции, из которой он вырастает, возникают серьезные трудности. О них должен знать каждый изучающий восточную мысль, потому что почти все важные суждения относительно древней Индии следует принимать с осторожностью. И следует упомянуть некоторые из этих затруднений, прежде чем приступить к индийскому буддизму.
Первое и самое серьёзное – это проблема интерпретации санскритских и палийских текстов, образующих древнеиндийскую литературу. Это относится в первую очередь к санскриту, священному языку Индии, и, в частности, к той его особой разновидности, которая использовалась в ведический период. Исследователь как на Западе, так и в самой Индии, не может быть уверен в точности интерпретации этих текстов, а все новые словари полагаются главным образом на один и тот же источник – лексикон, составленный Бетлингком и Ротом в конце прошлого столетия, в котором, как признано теперь, содержится немало гадательных утверждений. Это пагубно сказывается на понимании основных источников индуизма – Вед и Упанишад. Созданию правильных европейских эквивалентов для философских терминов Индии помешало то обстоятельство, что первые лексикографы слишком поспешно находили им параллели среди западноевропейских богословских терминов, ведь в первую очередь они стремились оказать помощь миссионерам8.
Второе затруднение состоит в том, что почти невозможно выяснить, что представлял собой первоначальный буддизм. Существуют два списка буддийских священных текстов: палийский Канон Тхеравады, или Южной школы буддизма, которая процветает на Цейлоне, в Бирме и Таиланде, и санскритско-тибетско-китайский Канон Махаяны, или Северной школы. Все исследователи считают, что основные сутты Канона Махаяны были составлены не раньше 1-го века до нашей эры. Однако литературная форма палийского Канона наводит на мысль, что и он не является буквальным воспроизведением слов Будды Сакьямуни. Если признать, что характер речи индийского учителя периода от 800 до 300 года до нашей эры отражён в языке Упанишад, то очень уж этот стиль не похож на скучные повторы и схоластическую манеру изложения священных текстов палийского Канона. Не приходится сомневаться в том, что большая часть обоих буддийских Канонов есть результат трудов пандитов Сангхи, буддийского монашеского ордена. Оба Канона обнаруживают все признаки благоговейной переработки первоначального учения. И в них, как на русских иконах, почти невозможно разглядеть живопись за покровом золота и драгоценных камней.
Третья трудность заключается в том, что индийско-буддийская традиция никогда не проявляла интереса к истории, столь характерного для традиции еврейско-христианской. Поэтому не существует почти никаких указаний на время создания того или иного буддийского текста. Задолго до того, как их записали, сутты из поколения в поколение передавались из уст в уста, и вполне возможно, что во время такой устной передачи ссылки на исторические события менялись, удовлетворяя потребности момента. Более того, буддийский монах, писавший в 200 году нашей эры, мог без всяких угрызений совести приписать Будде свои собственные слова, искренне полагая, что они являются выражением не его личного мнения, а того сверхличного состояния просветления, которого он достиг. Он приписывал свои слова Будде, как бы говоря от имени своего духовного, а не материального тела.
Опасность исследовательской работы всегда заключается в том, что при узкой специализации может оказаться, что за деревьями не видно леса. Поэтому для того, чтобы составить представление об индийской мысли, существовавшей во времена Будды за шесть веков до Иисуса Христа, недостаточно одного кропотливого исследования, – каким бы необходимым оно ни было. Существует все же достаточное количество надежных сведений, с помощью которых можно представить себе величественный и прекрасно разработанный индуизм Упанишад, если только не изучать его, уткнувшись носом в книгу.
Основополагающей для индийской жизни и мысли с самых древних времен является великая мифологическая тема атма-яджна (atma-yajna) – акта самопожертвования. Этим актом Бог порождает вселенную, и этим актом человек, следуя божественному образцу, воссоединяется с Богом. Акт, которым мир создается, и акт, которым он завершается, – один и тот же, – это отказ от своей жизни; как будто вечный космический процесс – не что иное как игра, где необходимо передать мяч, как только его получишь. Отсюда основной миф индуизма: мир – это Божество, играющее в прятки с самим собой. В качестве Праджапати, Вишну или Брахмы Бог под разными именами создаёт этот мир актом самоотречения или самозабвения, в результате чего Одно становится Многим и единственный Актер играет бесчисленные роли. В финале он возвращается к себе – только для того, чтобы начать пьесу с самого начала – Один, умирающий во Многих, и Многие, умирающие в Одном:
Наполняющего собою всю Землю и возвышающегося над ней на десять пальцев.
Пуруша – это всё, что было, есть и должно быть:
Он властелин бессмертия всего, что растёт благодаря пище.
Огромно его величие, но ещё огромней сам Пуруша.
Четвёртая часть его – всё сущее, три другие части – вечная жизнь в Небесах...
Боги, совершая жертвоприношение, приносили Пурушу в жертву.
Весна была его жертвенным маслом, лето – дровами, а осень — самой священной жертвой.
Из принесённого в жертву собрали жертвенный жир,
Который и образовал существа, обитающие в воздухе, дикие и домашние.
Когда разделили Пурушу, на сколько частей он был разделён?
Чем стали уста его, чем руки, чем бёдра, ноги?
Кастой Брахманов стали его уста, руки – Кшатриев кастой.
Его бёдра стали Вайшьей, из ног возник Шудра.
Луна родилась из ума его, из глаз возникло Солнце,
Из уст – Индра и Агни, из дыхания возник ветер.
Из пупа возникло воздушное пространство, из головы – небо.
Из ног – Земля, страны света – из слуха. Так образовались миры9.
Эти тысячи голов, глаз, ступней Пуруши – части тела человеческих и прочих существ, и суть здесь в том, что То, что глубоко и насквозь знает каждого индивидуума, есть сам Бог, атм.ан или “Я” мира. Каждая жизнь – это частица или роль, которая поглощает ум Божества приблизительно так же, как роль Гамлета поглощает актера, который, играя, забывает о том, что в действительной жизни он – м-р Смит. Акт самозабвения превращает Бога во все существа, но в тоже время он не перестает оставаться Богом. "Ибо все сущее – четвертая часть его, а три четверти – вечная жизнь в Небесах". Играя, Божество разделяется, но лишь на сцене, "понарошку", ибо в действительности Оно остается единым. И поэтому, когда пьеса приходит к концу, индивидуальное сознание, пробуждаясь, осознает свою божественность.
Вначале этот мир состоял из одного Атмана ("Я") в форме Пуруши. Оглядываясь вокруг, он не находил там ничего, кроме себя самого. Сначала он сказал: "Я есмь". Отсюда возникло слово “Я”. Поэтому и сейчас, когда к человеку обращаются, он только откликается "Я здесь", а потом уже говорит, как его зовут10.
Со всех сторон глаза, головы, лица,
Всюду слушают чуткие уши;
Мир собой покрыв, стоит Он11.
Не следует забывать, что этот образ мира как Божественной игры (лила) мифологичен по форме. Если бы мы взяли и перевели его на язык понятий как философский тезис, получился бы вульгарный пантеизм, с которым обычно, к сожалению, и путают философию индуизма. Представление о каждом существе, каждой вещи как о роли, которую играет в состоянии самозабвения Пуруша, не следует путать с логической или научной констатацией того же факта. Это утверждение по форме поэтическое, а не логическое. Как говорится в “Мундака Упанишаде”:
Философии индуизма чуждо ошибочное представление о том, что можно высказать информативное, фактическое и позитивное суждение относительно окончательной реальности. Как говорится в той же Упанишаде:
Любое положительное и окончательное суждение может быть высказано лишь поэтически, в суггестивной форме мифа. Однозначной, изъявительной форме речи остаётся здесь только одно: сказать "neti, neti" (нет, нет), поскольку то, что может быть названо и классифицировано, – неизбежно принадлежит сфере конвенционального.
Индийская мифология разрабатывает тему божественной игры на сказочном уровне, охватывающем не только колоссальные представления о времени и пространстве, но и полярные противоположности наслаждения и боли, добродетели и порока. Сокровенное "Я" святого и мудреца является вместилищем Божественного начала не в большей степени, чем сокровенное "Я" развратников, трусов, безумцев или самих демонов. Противоположности (двандва) света и тьмы, добра и зла, наслаждения и боли составляют существенные элементы игры. И хотя Божество отождествляется с Истиной (cam). Сознанием (чит) и Блаженством (ананда), его неотъемлемой частью является и оборотная сторона жизни. Ведь каждой драме для нарушения статус кво необходим свой злодей, и даже карточная игра не получит естественного развития, если не перепутать, не перетасовать карты перед игрой. Так что для индуистского мировосприятия не существует Проблемы Зла. Мир конвенциональный, относительный, по необходимости является миром оппозиций. Свет непостижим без тьмы; порядок невозможен там, где нет беспорядка, верха нет без низа, звука – без тишины, наслаждения – без боли. Как говорит Ананда Кумарасвами:
Как гласит миф, бессчётные круговороты времен идёт Божественная Игра, проходя стадии манифестации и уничтожения миров, измеряемые в калъпах, а кальпа составляет период в 4320000000 лет. С человеческой точки зрения этот процесс представляется ужасающе однообразным, потому что он бесцелен и бесконечен. Но с Божественной точки зрения он обладает вечным очарованием детской игры, которая идёт и идёт, потому что время позабыто и исчезло, превратившись в один чудный миг.
Вышеописанный миф не выражает какую-нибудь формальную философию, но является переживанием состояния сознания, которое называется мокша или “освобождение”. В целом правильнее было бы сказать, что индийская философия – это и есть такое переживание; вторичным и гораздо менее существенным является то, что она образует систему идей, которая пытается перевести этот опыт на конвенциональный язык. И по существу эта философия становится близка только тому, кто пережил такой опыт, содержащий иное, неконвенциональное знание, то самое, которое мы находим в даосизме. Другие его наименования – атма джнана (самосознание) или атма-бодха (самопробуждение), ибо этот опыт есть одновременно раскрытие того, кто и что есть "Я", когда "Я" перестаёт отождествлять себя с какой бы то ни было ролью или конвенциональным определением личности.
Содержание этого открытия индийская философия описывает лишь в мифологических терминах, в таких выражениях, как "Я есть Брахман" (ахам-брахман) или "Мы – одно с Тем" (тат твам аси), которые наводят на мысль, что Самосознание есть осознание своего изначального единства с Богом.
Но заявление "Я есмь Бог" не имеет здесь того значения, которым оно обрастает в иудейско-христианском контексте. Там мифологический язык, как правило, смешивается с языком фактов, так что не существует четкого разграничения между Богом, описанным в терминах конвенционального мышления, и Богом, которым Он является в действительности. Индус говорит: "Я есмь Брахман", но не подразумевает, что ему лично поручена вся вселенная и до мельчайших подробностей известны её действия. Во-первых, он отождествляет себя с Божеством не на уровне своей поверхностной индивидуальности. Во-вторых, его "Бог" – Брахман – не отвечает "лично" за мир, он знает и действует в нём не так, как человек, ведь он не воспринимает мир в терминах традиционных факторов и не действует на него, прилагая намерения, усилия и волю. Следует отметить,что само слово Брахман образовано от корня брих, что означает "расти". Творческая природа Брахмана, как и Дао, – это спонтанность, присущая процессу роста, в отличие от сознательности, присущей акту Творения. Далее, хотя считается, что Брахман "знает" самого себя, знание это – не информация, это не то знание, которое можно получить об объектах, отличных От субъекта. Как говорит Шанкара:
Для западного сознания представляется загадкой, почему индийская философия уделяет так много внимания объяснению того, чем не является переживание мокша, и почти не говорит о том, что же это такое на самом деле. Это действительно непонятно, ибо если это переживание настолько бессодержательно или настолько далеко от всего, что мы считаем важным, как объяснить то огромное значение, которое придается ему в индийском представлении о жизни?
Даже на конвенциональном уровне легко понять, что знать, чем вещь не является, нередко не менее важно, чем знать, чем. она является. Когда медицина не может предложить эффективное лекарство против простуды, есть некоторое преимущество в том, что мы знаем бесполезность каких-то общепринятых патентованных средств. Далее. Отрицательное знание в некотором отношении подобно пространству: это чистая страница, на которой могут появиться слова; порожний кувшин, в который можно налить жидкость; открытое окно, через которое может проникнуть свет, или пустая труба, по которой может течь вода. Очевидно, что ценность пустоты – в движении, которое в ней может осуществляться, или в веществе, которое будет в ней содержаться. Но в первую очередь для всего этого необходимо наличие самой пустоты. Поэтому индийская философия так сосредоточена на отрицании, на освобождении ума от любых понятий об Истине. Она не предлагает никакой идеи и никак не описывает, чем должно наполнить пустоту в уме, потому что любая идея заслонила бы факт. Так солнце, нарисованное на оконном стекле, может загородить настоящий солнечный свет. Если иудеи не допускали изображения Бога в камне или дереве, то индусы не допускают его изображения мыслью – разве что эта мысль настолько мифологична, что её уже никак не спутаешь с реальностью.
Поэтому практическое обучение пути освобождения (садхана) – это постепенное высвобождение "Я", атмана, из любого вида отождествлений. Освобождение состоит в осознании того, что "Я" не есть это тело, эти ощущения, эти чувства, эти мысли, это сознание. Ни один из возможных мыслимых объектов не есть моя сущность. В конечном счете, эту сущность нельзя отождествить ни с каким понятием, даже с идеей самого Божества или атмана. Как говорит Мандукья Упанишада:
Для сознания, взятого в целом, атман – то уке, что голова для зрения – ни свет, ни тьма, ни полное, ни пустое, некое непостижимое "вовне". В миг, когда прекращается всякое отождествление "Я" с вещами и понятиями, когда приходит состояние нирвикальпа, – "без концепции", из неведомых глубин, словно вспышка, является озарение, которое называют божественным – это знание Брахмана.
В переводе на конвенциональный и – не боюсь повторить – мифо-поэтический язык – знание Брахмана – это открытие того, что мир, который, казалось, был Многим, на самом деле есть Один, что в действительности "всё есть Брахман", и "всякий дуализм – ложная выдумка". Как констатация факта, эти утверждения логически бессмысленны и не несут никакой информации. Тем не менее, это наилучшее из возможных описаний действительного переживания, хотя в тот самый миг, когда "последнее слово" уже готово сорваться с языка, язык как бы отнимается, и остается либо нести околесицу, либо замолчать.
Мокша считается также освобождением от майи. Майя – одно из самых важных понятий в индийской философии, как индуистской, так и буддийской. Разнородный мир явлений и событий, как полагают, есть майя, в обычном понимании – иллюзия, которая скрывает единую лежащую за ней реальность Брахмана. Такое понимание создает впечатление, что мокша – это состояние сознания, в котором весь разнообразный мир природы исчезает из поля зрения, растворившись в беспредельном, тускло светящемся океане вселенной. С таким представлением необходимо решительно расстаться, ибо оно подразумевает дуализм, несовместимость Брахмана и майи, – а это противоречит основным принципам философии Упанишад. Ибо Брахман – не есть Единое в противоположность Множественному, не есть простое в противоположность сложному. Брахман свободен от оппозиций (адвайта), и Это значит, что он не имеет противоположности, так как Брахман не принадлежит никакой классификации или, говоря точнее, находится вне классификаций.
Как раз классификация и есть майя. Это слово происходит от санскритского корня матр, – "измерять", "образовывать", "строить" или "планировать", который встречается в греко-латинских словах: метр, материал, матрица, материя. Основа процесса измерения – деление. Оно производится, когда мы проводим пальцем отметку, делаем круг – от руки или циркулем, сыплем зерно или льём жидкость в мерный стакан. Поэтому санскритский корень – два – от которого происходит англ. "divide" (разделять), – является также корнем латинского duo (русского "два" и) англ. "dual" (двойной).
Сказать, таким образом, что мир фактов и событий есть майя, – это значит сказать, что факты и события – скорее единицы измерения, чем реалии природы. Мы должны далее расширить понятие измерения, включив в него любого вида ограничения, будь то описательная классификация или выборочный отбор. Тогда станет ясно, что факты и события – такие же абстракции, как линии меридиана или футы и дюймы. Вдумайтесь, и вы согласитесь, что ни к одному факту нельзя подходить изолированно, рассматривать его как нечто самостоятельное. Факт всегда является по меньше мере в паре с чем-то, потому что отдельное явление непостижимо вне пространства, в котором оно находится. Определение, ограничение, очерчивание – всё это акты разделения, и посему – двойственности, дуальности, ибо как только проведена граница, образуются две стороны.
Такая точка зрения несколько пугает и с трудом воспринимается теми, кто издавна привык считать, что предметы, события, явления и есть самые что ни на есть кирпичи мироздания, надёжнейшие из всех надёжных реалий. Тем не менее, правильное понимание учения о майе является важнейшим и непременным условием постижения индуизма и буддизма. Стараясь проникнуть в его смысл, нужно уметь отказаться от различных "идеалистических" философий Запада, с которыми его часто путают даже современные индийские ведантисты. Мир есть иллюзия ума не в том смысле, что освобождённый человек (дживанмукта) не видит ничего, кроме непроходимой Пустоты. Нет, он видит мир, тот же самый, что и все. Но он не проводит в нём границ, не измеряет его, не делит его, как все. Мир в его восприятии не распадается на отдельные предметы и явления. Он видит, например, что кожа что-то соединяет, только если считать, что она нечто разделяет, и наоборот.
Таким образом, его точка зрения отнюдь не монистична. Он не считает, что все явления – это Одно, потому что, строго говоря, не было и нет никаких "вещей", которые объединяются в Одно. Объединение – это такая же майя, как и разделение. В связи с этим и индуисты, и буддисты предпочитают говорить о реальности как о "не-дуальной", а не единой, ибо представление о едином подразумевает понятие о множественном. Учение о майе есть, таким образом, учение относительности. Оно гласит, что предметы, явления и события имеют границы не по самой своей природе, а лишь в человеческом описании; и способ, которым их описывают (или разделяют), относителен, он зависит от разных точек зрения.
Возьмём, например, событие, которое называется Первой Мировой Войной. Нетрудно заметить, что только с весьма условной точки зрения можно считать, что она началась 4 августа 1914 года и кончилась 11 ноября 1918. Историки могут открыть "подлинное" начало войны и окончание её много раньше и позднее указанных дат. Ведь события могут расщепляться и сливаться в одно, как шарики ртути, в зависимости от изменчивой моды исторической науки. Границы событий скорее конвенциональны, чем естественны, и это видно также на примере жизни человека, которая, как известно, отсчитывается с момента родов, – в то время как её можно было бы отсчитывать и с момента зачатия, и с момента отнятия от груди.
Подобным же образом легко увидеть конвенциональный характер отдельных предметов. Обычно человеческий организм понимается как целое, хотя с точки зрения физиологической – это столько предметов, сколько в нем частей или органов, а с точки зрения социологической – это всего лишь частичка более крупного целого, которое называется нацией или классом.
Конечно, мир природы изобилует поверхностями и линиями, участками плотными и пустыми, и мы пользуемся всем этим для проведения границ между явлениями и предметами. Но учение о майе гласит, что эти формы (рупа) не имеют "своебытия", "само-природы" – свабхавы, они существуют не по собственному праву, но лишь в отношении к другому. Так, твердое тело не может быть определено вне соотнесенности с пространством. В этом смысле твердое тело и пространство, звук и тишина, существующий и несуществующий, фигура и фон – неотделимы друг от друга, взаимосвязаны, или “взаимовозникающи”. Только благодаря майе или конвенциональному разделению они воспринимаются по отдельности.
Индийская философия рассматривает форму – или (рупа) как майю, потому что она непостоянна. Когда в индуистских или буддийских текстах говорится о "пустом" или "иллюзорном" характере видимого мира природы – в отличие от конвенционального мира предметов – подразумевается именно непостоянство его форм. Форма – это поток, и поэтому она – майя в несколько более широком смысле слова, в том смысле, что ее нельзя зафиксировать, схватить. Форма – это майя, когда ум пытается постичь её и подчинить себе, заключить в твёрдые категории мысли, т.е. обозначить именами (нама) и словами. Ибо это как раз те самые существительные и глаголы, с помощью которых конструируются абстрактные и понятийные категории Вещей и событий.
Чтобы выполнить свое назначение, имена и термины должны по необходимости, как всякая единица измерения, быть определенными и постоянными. Но они так хорошо – в ограниченном смысле – справляются со своей задачей, что человек подвергается постоянному искушению смешать эти измерения с измеряемым миром, отождествлять деньги с богатством, зафиксированную конвенцию с изменяющейся реальностью. Однако в той мере, в какой он отождествляет себя и свою жизнь с этими косными и пустыми трафаретами-определениями, он обрекает себя на постоянное разочарование того, кто пытается набрать воду решетом. Поэтому индийская философия неустанно напоминает, как глупо охотиться за вещами, требовать постоянства от отдельных существ или явлений – во всём этом она видит лишь ослеплённость призраками, завороженность абстрактными мерками ума (манас)13.
Майя, таким образом, приравнивается к понятию намарупа, с "именем-и-формой", – стремлением разума уловить текучие формы природы в ячейках фиксированной классификации. Но стоит понять, что в конечном счете форма – пуста, – в том смысле, что она неуловима и неизмерима – мир форм становится уже не майей, а Брахманом. Формальный мир становится реальным в тот самый миг, когда его перестают удерживать, когда перестают сопротивляться его изменчивой текучести. Ибо именно преходящесть мира и является знаком его божественности, его истинного тождества с неделимой и неизмеримой бесконечностью Брахмана.
Таким образом, индуистско-буддийская философия, настаивающая на изменчивости мира, вовсе не то пессимистическое и нигилистическое учение, какое обычно видят в ней западные критики. Преходящесть представляется гнетущей только уму, который упорно стремится к обладанию, но в уме, отпущенном на волю, плывущем вместе с потоком перемен, ставшей, по образному выражению Дзэн-буддизма, мячиком в пене горного потока, ощущение преходящести или пустоты порождает чувство восторга. Может быть, поэтому и на Востоке, и на Западе тема бренности часто вдохновляла наиболее глубокую и трогательную поэзию, и даже там, где сам поэт больше всего страдает от неё, величие перемен проступает во всём блеске:
А дни ползут, и вот уже в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Догорай, огарок!
Жизнь – это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это сказка,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти,
Нет лишь смысла.
Если всё обстоит именно так – по замечанию Р.Х. Блиса – дела совсем не так уж плохи.
Итак, учение о майе подчёркивает, во-первых, невозможность заключения реального мира в сети страсти, ячейки слов и понятий и, во-вторых, текучий характер самих этих форм, которые мысль пытается определить. Мир фактов и событий – это в целом – нама, абстрактные названия, и рупа, текучая форма. Он ускользает и от постижения философа, и от хватки искателя наслаждений, как вода, вытекающая из стиснутого кулака. Это так даже в представлениях о Брахмане как о вечной реальности, стоящей за этим потоком, ибо в понятии "атман" как божественная основа человеческого сознания” так же, как и в любом другом понятии присутствует нечто обманчивое. В той мере, в какой эти представления являются идеями, они так же мало способны ухватить реальное, как и всякая идея.
Именно это осознание тотальной неуловимости мира и лежит в основе буддизма. Именно этот момент более, чем что-либо иное, отличает учение Будды от философии Упанишад и составляет raison d'etre (разумное основание) распространения буддизма как особого направления индийской жизни и мысли.
Для Гаутамы Просветлённого, или Будды (пр. 545 г. до н.э.), жившего в то время, когда уже возникли важнейшие из Упанишад, их философия явилась отправной точкой для его собственного учения. Было бы, однако, ошибкой понимать Будду как "основателя" или "реформатора" религии, т.е. создателя учения, кoтopoe явилось каким-то организованным протестом против индуизма. Ведь мы имеем дело с эпохой, когда сами слова "инду-изм", "брахман-изм" не имели бы никакого смысла. Просто существовала традиция, воплощённая в Ведах и Упанишадах, которые передавались из уст в уста, и она не была явно и только "религиозной", ибо охватывала образ жизни людей в целом, затрагивая все стороны жизни от способов обработки земли по представлений о конечной реальности. Будда действовал в полном согласии с этой традицией, когда, отказавшись от жизни "хозяина дома" и расставшись со своей кастой, стал риши – "лесным мудрецом", чтобы найти путь освобождения. Как у любого другого риши, его поиски освобождения имели свои особенности, и его учение содержало анализ неудачных попыток людей осуществлять на практике те верования, которые они исповедовали.
Вполне в духе традиции был и его отказ от своей кастовой принадлежности, и принятие в ученики бездомных и внекастовых искателей истины. Ибо индийская культура еще более, чем китайская, поощряет в определенном возрасте отказ от конвенционального образа жизни – к концу жизни, когда исполнен долг семьянина и гражданина. Выход из касты есть открытое и очевидное выражение того, что человек осознал свою истинную суть, понял, что она “деклассифицируема”, что роли и личности – чисто конвенциональны и что подлинная природа человека есть "не-вещь" и "не-тело".
Это осознание и есть суть бодхи, просветления Будды, которое снизошло на него однажды ночью, когда он сидел под прославленным деревом Бодхи в Гайе после семи лет медитаций в лесном уединении. С точки зрения Дзэн это переживание и есть главное содержание буддизма, и изложенное на словах учение – совершенно второстепенно по сравнению с внесловесной передачей самого этого опыта от поколения к поколению. В течение семи лет Гаутама всеми силами пытался с помощью традиционных средств йоги. и тапаса, созерцания и аскезы, проникнуть в тайну порабощения человека майей, он стремился найти выход из порочного круга привязанности к жизни (mpuui.H.a), подобного тщетной попытке руки уцепиться за себя саму. Все его старания были напрасны. Вечный атман, истинное "Я", оставалось недостижимым. Как ни сосредоточивался он на собственном уме, пытаясь проникнуть до самых его истоков и корней, он не находил ничего, кроме своего собственного усилия сосредоточиться. Вечером накануне своего озарения он просто "отбросил всё" и, нарушив аскетическую диету, съел что-то питательное.
И сразу же после этого он почувствовал, что в нём начинает происходить глубокая перемена. Он сел под дерево, дав обет – не вставать, пока не достигнет высшего озарения, и – как гласит предание – сидел всю ночь, пока мелькнувшая на мгновение утренняя звезда вдруг не вызвала в нём ощущения совершенной ясности понимания. Это и было ануттара самъяк самбодхи – "непревзойдённое, совершенное просветление", освобождение от майи и от вечного Круговорота рождения-смерти – самсары, того круговорота, который не может быть разорван, пока человек в любой форме цепляется за свою жизнь.
Однако действительное содержание этого опыта никогда не было и не будет выражено словами. Ведь слова – это трафареты майи, ячейки её сетей, а переживание (опыт) – вода, протекающая сквозь них. Что же касается слов, то единственное, что можно сказать об этом переживании, – это слова, приписываемые Будде в Ваджрачхедике:
Так, в концепции Дзэн Будда "не сказал ни единого слова", несмотря на то, что ему приписываются тысячи изречений. Его истинное послание не могло быть выражено словами, и его природа была такова, что когда его пытались сформулировать словами, получалось, будто оно – ничто. Тем не менее важнейшей традицией Дзэн является передача иным способом того, что не может быть выражено речью, – "прямым указанием", неким внесловесным способом общения, без которого буддийский опыт никогда не смог бы переходить от поколения к поколению.
Дзэн-буддийское и, вероятно, довольно позднее предание гласит, что Будда, держа в руке цветок и не произнося ни слова, передал просветление своему любимому ученику Махакашьяпе. Палийский канон гласит, что сразу после пробуждения Будда отправился в Олений парк Бенареса к отшельникам, с которыми прежде вёл там аскетическую жизнь, и изложил своё Учение в виде Четырёх Благородных Истин, которые очень точно передают основную суть буддизма.
Эти Четыре Истины составлены по ведическому образцу врачебных диагнозов и предписаний: они содержат диагностику заболевания, его причину, суждение о возможности или невозможности выздоровления и способ излечения.
Первая Истина касается трудного для понимания термина духкха, весьма приблизительно переводимого как "страдание". Им обозначается великая болезнь мира, та болезнь, от которой единственным лекарством является метод Будды – дхарма.
Рождение – духкха, разрушение – духкха, болезнь – духкха, смерть – духкха, таковы же печаль и горе... Соединение с неприятным., отлучение от приятного – духкха. Недостижение желаемого – тоже духкха. Одним словом, это тело, этот пятиричный конгломерат, основа которого – желаиие (тришна), есть духкха14.
Эту истину, однако, нельзя свести к общему утверждению, что "жизнь есть страдание". Вернее было бы сказать, что жизнь, которую мы ведём, есть страдание, вернее, она отравлена особым горьким разочарованием, охватывающим нас, когда рушатся надежды на достижение невозможного. Может быть, поэтому точнее переводить духкха – “фрустрация”, "разочарование", хотя антонимом этого слова является сукха, что значит "приятный", "сладкий"15.
По другой версии буддийского учения, духкха – одна из трёх неотъемлемых черт бытия или становления – бхава, две же другие – это анитъя – непостоянство и анатман – отсутствие "Я". Эти два термина чрезвычайно важны. Учение анитьи – это не простая констатация того, что мир изменчив, скорее она означает, что чем более человек цепляется за жизнь, тем она больше меняется. Сама по себе реальность ни постоянна, ни изменчива – она не подвластна определению. Но когда мы пытаемся удержать её, во всём обнаруживается изменчивость; здесь как с тенью: чем быстрей догоняешь, тем быстрей она от тебя убегает.
Подобным же образом понятие анатман – это не простое утверждение факта, что в глубине нашего сознания нет "Я" (атмана). Вернее считать, что нет "Я", которое можно было бы уловить непосредственным переживанием или с помощью понятий. Вероятно, Будда чувствовал, что учение об атмане в Упанишадах очень легко поддаётся неверной интерпретации, при которой атман становится верованием, объектом желаний, целью стремлений, чем-то таким, в чём ум надеется обрести надёжное убежище от потока жизни. Будда же считал, что понятие "Я" – не есть истинное "Я", а всего лишь одна из бесчисленных форм майи. Концепция анатмана может быть выражена следующим образом:
"Истинное "Я" есть "не-Я"", ибо всякая попытка постичь "Я", уверовать в него или обрести его неминуемо его уничтожает”.
Упанишады проводят различие между атманом, истинным сверхиндивидуальным "Я" и дживатманом, или индивидуальной душой, и буддийская доктрина анатмана вместе с Упанишадами отрицает реальность последней. Все школы буддизма – и это существенно – считают, что нет "эго", нет особой субстанции, которая является постоянным субъектом наших изменчивых переживаний. "Эго" существует лишь как абстрактное понятие: это абстракция, которую создаёт память, вроде того, как быстрое вращение факела создаёт иллюзорный огневой круг. Мы, например, можем представить себе полёт птицы в небе в виде линии, по которой она летела. Но эта линия так же воображаема, как линия географической широты. На самом деле птица не оставляет следа в небе – точно так же целиком, без остатка исчезает прошлое, из которого формируется, абстрагируясь, наше "эго". Поэтому всякая попытка уцепиться за "эго" или опереться на него в своих поступках обречена на разочарование.
Вторая Благородная Истина относится к причине фрустрации, которая называется тришна – хватание или привязанность, порождённое авидьей, т.е. неведением, омраченностью. Авидья и является точным антонимом пробуждения. Это состояние настолько загипнотизированного, завороженного майей сознания, что оно ошибочно принимает абстрактный мир вещей и событий за мир конкретной реальности. На более глубоком уровне авидья – это незнание самого себя, непонимание того, что всякое хватание оказывается тщетной попыткой схватить самого себя или, точнее, заставить жизнь удержать саму себя. Ибо для того, кто познал себя, не существует дуализма "Я" и внешнего мира. Авидья выражается в "игнорировании" того, что объект и субъект взаимосвязаны, как две стороны медали, так что если один из двоих гонится, другой убегает. Вот почему эгоцентрическое стремление господствовать над миром, захватить под контроль своего "Я" как можно большую часть мира, скоро приводит к трудной проблеме контроля "эго" над самим собой.
По существу это весьма элементарная проблема того, что сейчас называют кибернетикой, наукой об управлении. С точки зрения механики и логики легко понять, что любая система, приближающаяся к полному самоконтролю, одновременно приближается и полному саморазочарованию (саморасстройству). Такая система образует порочный круг, она обладает той же логической структурой, что и заявление, содержащее утверждение относительно самого себя. Скажем, фраза "Я лгу", означает, что сама она ложна. Такое утверждение бессмысленно вращается в собственном замкнутом кругу: оно всегда верно точно в той же степени, в какой ложно, и ложно в той степени, в какой верно. Или вот другой более конкретный пример: пока я крепко держу мяч – для того, чтобы сохранить над его движением полный контроль – я никак не могу бросить его.
Следовательно, стремление к полному контролю над окружающим и над самим собой возникает из-за глубокой неуверенности контролирующего. Авидья – это его неспособность осознать несостоятельность такой позиции. Так авидья порождает тщетное цепляние за жизнь, попытки управлять ею, которые есть не что иное, как перманентная фрустрация, а всё вместе создает способ существования жизни, порочный круг, который индуизм и буддизм называют самсара – Круг рождения-и-смерти16.
Активное начало Круга называется карма, или "обусловленное действие", т.е. действие, которое, возникая в силу какой-нибудь причины и преследуя какую-то цель, порождает необходимость во все новых и новых действиях. Человек вовлечен в карму, когда он вмешивается в жизнь таким образом, что вынужден вмешиваться в нее все больше, когда решение одной проблемы порождает новые проблемы, а контроль над чем-то одним создает необходимость в контролировании многого другого. Карма поэтому является уделом всех, кто “пытается стать Богом”. Они расставляют миру ловушки и попадают в них сами. Многие буддисты понимают Круг рождения-и-смерти совершенно буквально – как процесс перевоплощения, в котором карма, формируя индивидуум, создаёт его снова и снова, из жизни в жизнь, пока наконец этому не приходит конец благодаря инсайту и пробуждению. Но в Дзэн и в других школах Махаяны Круг понимается более метафизически как цепь рождений, происходящих из мига в миг: человек подвержен новым рождениям до тех пор, пока отождествляет себя с постоянным "эго", которое в каждый миг жизни воплощается заново. Так что истинность и интерес этой теории не требует принятия специальной теории выживания. Значение её скорее в постановке проблемы действия в порочном круге в целом, и в этом отношении буддийская философия должна представлять особый интерес для исследователей теории коммуникации, кибернетики, логической философии и других подобных наук.
Третья Благородная Истина касается прекращения духкхи, разочарования, фрустраций, цепляния и всего порочного стереотипа кармы, которым порождается Круг. Это окончание называется нирвана, слово настолько многозначной этимологии, что простой перевод его представляет непреодолимые трудности. Его ассоциируют с санскритскими корнями, выражающими такие значения, как задувание пламени или просто выдох, а также прекращение волнового, вращательного движения (вритти) ума.
Последние две интерпретации представляются наиболее осмысленными. Если нирвана есть выдох, – это акт человека, осознавшего тщетность попыток удерживать до бесконечности свое дыхание или жизнь (прана), ибо удерживать дыхание и значит терять его. Таким образом нирвана является эквивалентом мокши, избавления или освобождения. На первый взгляд может показаться, что это отчаяние, ведь это признание того, что жизнь не оставляет камня на камне от наших попыток руководить ею, что все человеческие стремления и усилия – не более чем мелькнувшая на миг рука, пытающаяся ухватиться за облако.
Но если взглянуть с другой точки зрения – это отчаяние, преобразившееся в радость и творческую силу сознания. Это осознание того, что потерять жизнь – значит обрести её, обрести свободу действий, не отравленную озабоченностью, не подорванную саморазочарованием, – всем тем, что создают старания спасти своё "Я" и попытки удержать его под контролем.
Если нирвана связана с прекращением (нир) движения (вритти), то этот термин совпадает с целью йоги, которая по определению Йога-сутры есть читта вритти ниродха – прекращение вращений ума. Эти “вращения” ума – мысли, с помощью которых ум пытается ухватить мир и самого себя. Йога – это практика попытки остановить мысли с помощью размышления о них самих до тех пор, пока человек со всей остротой не ощутит тщетность самих попыток; когда этот момент наступит, процесс прекратится сам собой и ум обретёт свою естественность и незамутнённость.
Нетрудно заметить, что обе этимологии приводят к одинаковому значению. Нирвана – это образ жизни, который начинается там, где прекращается цепляние за жизнь. Поскольку все определения представляют собой в определённой мере "цепляние", нирвана не поддаётся определению. Это естественное, “нецепляющееся за себя” состояние ума. И само слово "ум" не имеет здесь точного смысла – ведь то, что не может быть схвачено, не существует для знания в конвенциональном смысле слова. В более доступном и буквальном понимании нирвана – это исчезновение существ из Круга рождений и переход их не в состояние уничтожения, но просто в состояние, которое ускользает от определений и поэтому остаётся неизмеримым и бесконечным.
Достигнуть нирваны – всё равно, что достигнуть состояния Будды, состояния пробуждения. Но это не есть достижение в обычном понимании, потому что никакие побуждения и приобретения здесь не участвуют. Невозможно желать нирваны или намереваться достичь её, ибо всё, что является желаемым или понимается как объект действия, по определению не является нирваной. Нирвана может возникнуть лишь непроизвольно, спонтанно, когда полностью осознана невозможность цепляний за своё "Я". Поэтому тот, кто стал Буддой, – вне рангов. Его нет наверху, среди ангелов, его нет и внизу, среди демонов, он не появляется ни в одном из шести секторов Круга. И было бы ошибкой считать его выше ангелов, ведь закон Круга гласит, что то, что сейчас верх, в следующий миг станет низом и наоборот. Будда вышел за рамки каких бы то ни было оппозиций и такие понятия как "высшее существо", или "духовное развитие" для него не имеют смысла.
Четвёртая Благородная Истина описывает Восьмеричный Путь Дхармы Будды, т.е. метод или учение, с помощью которого саморазочарование просто исчезает. Каждая часть этого пути сопровождается прилагательным самьяк (пали – салила), что значит "полный" или "совершенный". Первые два пункта посвящены мышлению, следующие четыре – действию, последние два – осознанию или концентрации. Итак, получается:
- Самьяк-дришти, или совершенный взгляд.
- Самьяк-амкальпа, или совершенное понимание.
- Самьяк-вак, или совершенная речь.
- Самьяк-карманта, или совершенное действие.
- Самьяк-аджива, или совершенная склонность.
- Самьяк-вьяяма, или совершенное применение.
- Самьяк-смрити, или совершенное воспоминание.
- Самьяк-самадхи, или совершенная концентрация.
Разделы, посвящённые действию, часто понимаются неверно, т.к. они имеют обманчивое сходство с "моральным кодексом". Буддизм не Разделяет убеждения Запада, что существует некий нравственный закон, предписанный Богом или природой, которому человек обязан повиноваться. Буддийские правила поведения – воздержание от захвата жизни, от захвата того, что не дано, от эксплуатации страстей, от лжи и опьянения – всё это целесообразные наставления, которые принимаются добровольно, дабы удалить помехи, затрудняющие ясность сознания. Нарушение этих предписаний порождает дурную карму, но не потому, что карма – это закон или некое моральное возмездие, а потому, что все целенаправленные и мотивированные поступки, будь они с конвенциональной точки зрения хорошими или дурными, безразлично, – являются кармой, раз они направлены на “обладание” жизнью. Вообще говоря, “дурные” с конвенциональной точки зрения дела носят более захватнический характер, чем “добрые”. Но на высших стадиях буддийская практика занята освобождением как от “хорошей”, так и от “дурной” кармы. Таким образом, правильное действие есть абсолютно свободное, необусловленное или спонтанное действие, точно такое же, как даосское у-вей17.
Смрити – воспоминание и самадхи – концентрация образуют раздел, посвященный медитации, внутренней ментальной практике пути Будды. Совершенное воспоминание – это постоянное удержание в памяти и осознание своих ощущений, чувств и мыслей – без какой бы то ни было цели или оценки. Это тотальная ясность и бдительность ума, активно пассивного, в котором события приходят и уходят как отражения в зеркале. Ничего не отражается, кроме того, что есть.
При такой ясности сознанию становится очевидно, что различие между мыслящим и мыслью, познающим и познаваемым, субъектом и объектом – чистая абстракция. Нет ума с одной стороны и его переживаний с другой – есть лишь процесс восприятия, в котором нечего захватить, ибо нет объекта, и некому захватывать, ибо нет субъекта. Понятый таким образом процесс переживания перестает цепляться сам за себя. Мысль следует за мыслью без разрыва, иначе говоря, не нуждаясь в том, чтобы, разделившись, стать своим собственным объектом.
Эта не-дуальность ума, который уже не обращён против самого себя, называется самадхи. Так как бесплодное “коловращение” мысли вокруг самой себя прекращается, самадхи и есть состояние глубочайшего покоя. Но это не есть неподвижность абсолютной бездеятельности, ибо ум возвращается к своему естественному состоянию, самадхи сохраняется и во время “ходьбы, стояния, сидения и лежания”. Однако с древних времен буддизм особенно культивировал практику воспоминания и медитации в положении сидя. Множество изображений Будды показывают его медитирующим сидя, в особой позе, называемой падмасана – поза лотоса – со скрещенными ногами и вывернутыми пятками, лежащими на бёдрах.
Сидячая медитация вопреки распространённому мнению не является “духовным упражнением”, тренировкой, преследующей какую-то скрытую цель. С точки зрения буддизма, это просто наилучший способ “сидения”, и совершенно естественно оставаться сидя, раз делать нечего и тебя не пожирает нервное возбуждение. Для беспокойного западного темперамента сидячая медитация представляется определённой дисциплинарной мерой не из приятных, потому что мы совсем не умеем “просто сидеть” – без угрызений совести, без ощущения, что для оправдания своего существования необходимо делать что-то более важное. Для успокоения этой мятущейся совести приходится представлять себе сидячую медитацию как упражнение, дисциплину, преследующую особую цель. Но с этого самого момента она перестаёт быть медитацией, (дхъяной) в буддийском смысле слова, ибо там, где есть цель, где есть стремление и достижение результатов, там нет дхъяны.
Слово дхъяна (пали – джхана) есть санскритский исток китайского слова чань и японского дзэн., так что его совершенно необходимо осознавать для понимания Дзэн-буддизма. “Медитация” в общеупотребительном смысле слова как “обдумывание” или “размышление” – наиболее ошибочная его интерпретация. Но другие варианты, такие как “транс”, “погружение” – ещё хуже, т. к. они наводят на мысль о гипнотическом состоянии. Лучше всего оставить дхьяну без перевода и ввести её в наш язык так же, как мы сделали это со словами Нирвана и Дао20.
В буддийской терминологии слово дхъяна включает в себя значения двух слов: смрити и самадхи, и точнее всего оно переводится как состояние объединённого однонаправленного сознания. Оно однонаправлено, во-первых, в том смысле, что сосредоточено на настоящем, ибо для ясного сознания не существует ни прошлого, ни будущего, а только данный миг (экакшана), – то,.что западные мистики называли “Вечное Сейчас”. Во-вторых, оно однонаправлено в том смысле, что является состоянием сознания, где неразличимы познающий, познавание и познаваемое.
Что означает слово дхъяна, трудно почувствовать ещё и потому, что английский язык не допускает употребления переходного глагола в безличном предложении. Там, где есть “познавание”, грамматическая условность требует назвать кого-то, кто познаёт, и что-то, что познаётся. Мы так привыкли к этой конвенции речи и мышления, что никак не можем признать, что это всего лишь условность и что она не всегда совпадает с действительным переживанием познания. Когда мы говорим “сверкнул свет”, – уже легче пробиться сквозь грамматическую конвенцию, и заметить, что “сверкание” и есть свет. Но дхъяна, состояние ума освобождённого, или просветлённого человека, естественно, свободна от того, чтобы смешивать конвенциональные понятия с реальностью. Интеллектуальное неудобство, которое мы ощущаем при попытке представить себе процесс познания без чёткого “кого-то”, кто познаёт, и “чего-то”, что познаётся, подобно стеснению гостя, прибывшего на официальный приём в пижаме. Ошибка эта относится не к бытию в целом, а к английской традиции.
И вот мы снова видим, как конвенция как майя измерений и описаний населяет мир призраками, которые мы называем существами и предметами. С такой силой завораживает, гипнотизирует нас власть конвенций, что мы начинаем верить в эти призраки как в действительный мир и наделяем их своей любовью, превращаем их в свои идеалы, в свою ценнейшую собственность. Но нас мучительно беспокоит проблема: “что будет со мной, когда я умру”. Ведь в конце концов она та же, что вопрос, “что будет с моим кулаком, когда я разожму руку. Может быть, теперь мы сможем лучше понять прославленную формулу буддийского учения, которая приведена в Вишудхимагге:
Есть деяние, но нет того, кто творит его.
Есть нирвана, но нет того, кто стремится к ней.
Есть Путь, но нет того, кто следует по нему. [16]
Так как учение Будды – это путь освобождения, – его единственной целью является переживание нирваны. Будда не стремился к разработке последовательной философской системы. Он не старался удовлетворить интеллектуальное любопытство, желающее получить словесные объяснения конечной реальности. Когда к нему приставали с расспросами о природе нирваны, о происхождении мира или реальности “Я”, и требовали ответа, Будда хранил “благородное молчание” – он считал, что эти вопросы неуместны и не ведут к истинному переживанию освобождения.
Существует мнение, что дальнейшее развитие буддизма было вызвано неспособностью индийского ума довольствоваться этим молчанием, что буддизм Махаяны является выражением непреодолимого стремления ума к “абстрактным метафизическим спекуляциям” относительно природы реальности. Однако такое мнение весьма ошибочно. Огромное древо Махаяны выросло не столько ради удовлетворения интеллектуального любопытства, сколько для решения практических психологических задач, с которыми сталкивались люди, следовавшие путем Будды. Конечно, эти проблемы разрабатывались по-учёному, и интеллектуальный уровень текстов Махаяны очень высок. Но не создание философской системы было их целью, а достижение переживания освобождения. Как говорит сэр Артур Беридейл Кэйс: "Метафизика Махаяны, непоследовательность её системы, достаточно ясно свидетельствуют, что интерес монахов к ней был вторичным, поскольку в первую очередь они были озабочены достижением освобождения. Махаяна ничуть не меньше, чем Хинаяна, занята этой насущной практической задачей, и её философская ценность определяется очень просто – тем, насколько она помогает человеку достичь своей цели".
Разумеется, в некотором отношении буддизм Махаяны является уступкой как интеллектуальному любопытству, так и широко распространенному желанию достичь цели кратчайшим путем. Но в основе своей он представляет собой творение в высшей степени чувствительных и проницательных умов, изучающих свою собственную внутреннюю деятельность, У каждого, обладающего развитым самосознанием, возникает множество относящихся к практике метода вопросов, которые буддийский Палийский Канон не в силах решить, ибо его проникновение в психологию идет не дальше построения аналитических каталогов функций ума. Хотя предписания Палийского Канона ясны, они не слишком подходят для преодоления практических трудностей. Может быть, это слишком поспешный вывод; но создаётся впечатление, что Палийский Канон стремится открыть врата нирваны при помощи чистого усилия, тогда как Махаяна готова вертеть ключом в замочной скважине до тех пор, пока он плавно не откроет.
Главной заботой Махаяны является разработка “искусных методов”, упайя, необходимых для того, чтобы сделать нирвану доступной для любого типа сознания.
Как и когда возникли доктрины Махаяны, до сих пор остается исторической загадкой. Главнейшие сутты Махаяны официально считаются творением самого Будды и его ближайших учеников. Однако их стиль так отличен от Палийского Канона, их доктрина настолько тоньше, что учёные почти единодушно относят их к более позднему периоду. Нет данных, говорящих об их существовании во времена легендарного буддийского императора Ашоки, внука Чандрагупты Маурья, который в 262 году до нашей эры принял буддизм. Оставленные Ашокой надписи на скалах, по сути, передают тот же смысл, что и социальные учения Палийского Канона, подчеркивая необходимость ахимсы, или не-насилия, по отношению к людям и животным, и излагая общие предписания для жизни мирян. Вскоре после 400 года н.э. основные тексты Махаяны появились на китайском языке в переводе Кумарадживы, но наши сведения об истории Индии на протяжении шестисот лет, последовавших за смертью Ашоки, столь скудны, а данные, содержащиеся в самих суттах, так неясны, что остаётся лишь отнести возникновение сутт к этим четырёмста годам, то есть где-то между 100 годом до н.э. и 200 годом н.э. Даже даты рождения и смерти выдающихся личностей, связанных с этими суттами - Асвагхоши, Нагарджуны, Асанги и Васубнандху – известны весьма приблизительно.
Традиция самой Махаяны относит происхождение учения к проповедям Будды, обращённым к его ближайшим ученикам, но до времени сокрытым от публичного обнародования, поскольку мир тогда ещё не созрел для них. Эта идея – идея “отсроченного откровения” – хорошо известный приём, – он даёт возможность созреть традиции, развиться содержанию, скрытому в первоначальном зерне учения. Явные противоречия между более ранними и позднейшими доктринами при этом объясняются тем, что их связывают с различными уровнями истины, от наиболее относительных до абсолютных, которых школа Аватамсака (по всей вероятности, намного более позднего происхождения) насчитывает по меньшей мере пять. Однако проблема исторического происхождения Махаяны не имеет непосредственного значения для понимания Дзэн, который, будучи скорее китайской, чем индийской формой буддизма, появился тогда, когда буддизм Махаяны уже созрел. Поэтому мы перейдём к изложению важнейших учений Махаяны, из которых в последствии и развился Дзэн.
Махаяна отличает себя от буддизма Палийского Канона, называя последний “Малой Колесницей Освобождения”, (хина - малая, яна - колесница), а себя – “Большой (маха) Колесницей”, – большой потому, что она содержит большое богатство упайя, методов достижения нирваны, – от утончённой диалектики Нагарджуны, чья цель – освобождение сознания от любых фиксированных концепций, до школы Сукхавати, или Чистой Земли, учения об освобождении через веру в силу Амитабхи, Будды Бесконечного Света, который, как считают, достиг просветления за много эонов до рождения Гаутамы. Эти методы включают даже Тантрический буддизм, согласно которому освобождение может быть осуществлено с помощью повторения сакральных формул и слов, т. е. дхарани, и особых видов йоги, в том числе йоги половой любви, осуществляемой с шакти, или духовной женой.
Пресловутая “развратность” майтхуны, как называется эта практика, – целиком на совести и в умах христианских миссионеров. На самом деле отношения с шакти – всё что угодно, но не распущенность – это уровень подлинно зрелого понимания, уникальная попытка мужчины и женщины действительно осуществить совместное духовное развитие. Это ведет к освящению половых отношений, что, по логике, и должно было бы явиться составной частью католического воззрения на брак как на таинство.
При первом знакомстве с Палийским Каноном создаётся впечатление, что нирвана может быть достигнута за счёт настойчивых усилий и строжайшего самоконтроля и что ищущий должен отказаться от всех прочих дел и стремиться только к достижению этого идеала. Сторонники Махаяны, возможно, правы, считая, что Будда обучал этому лишь как упайе, “искусному методу”, с помощью которого ученик мог ясно убедиться на собственном опыте в абсурдности такого порочного круга, – когда желаешь не желать или пытаешься избавиться от эгоизма, полагаясь только на своё эго. Ибо именно к этому выводу и приводит следование учению Будды. Отрицательные результаты подобной практики можно было бы счесть проявлением лени и недостатка характера, но правдоподобнее выглядит версия, что те, кто упорствовал в своём “самоосвобождении”, просто не замечали заключавшегося в нём парадокса. Всякий раз, когда Махаяна проповедует освобождение путём собственных усилий, она использует этот довод лишь как средство привести индивидуума к ясному осознанию иллюзорности его эго.
Многое указывает на то, что одним из самых ранних представлений Махаяны явилась концепция Бодхисаттвы как не просто потенциального Будды, но существа, отказавшегося от нирваны и тем самым достигшего более высокого духовного уровня, чем тот, кто достиг её и таким образом покинул мир рождения-и-смерти. Согласно Палийскому Канону, ученики Будды, достигшие нирваны, называются Арханами (Arhan), или “достойными”. Но в текстах Махаяны идеал Архана рассматривается как чуть ли не эгоистический. Он годится для шраваки, “слушателя” доктрины, который дошёл лишь до теоретического понимания учения. Бодхисаттва – это тот, кто осознал, что в нирване, достигнутой собой и для себя, содержится глубокое противоречие. Для огромного количества людей Бодхисаттва стал объектом поклонения, бхакти, спасителем мира, который дал клятву не вступать в конечную нирвану, пока её не достигнут все чувствующие существа. Ради них согласился он рождаться снова и снова в круговороте самсары, пока через бесчисленные века даже трава и пыль не достигнут состояния Будды.
Но с более глубокой точки зрения ясно, что идея Бодхисаттвы заложена в самой логике буддизма, что она естественно вытекает из принципа “не-захватывания” и из учения о нереальности эго. Ведь если нирвананирвана есть нечто такое, чего можно добиться, чем можно овладеть. И далее: если “эго” – действительно не более чем есть такое состояние, в котором совершенно прекращаются попытки “ухватить” реальность, т. е. осознаётся невозможность этого, то, очевидно, было бы абсурдом полагать, что сама условность (конвенциональность), –